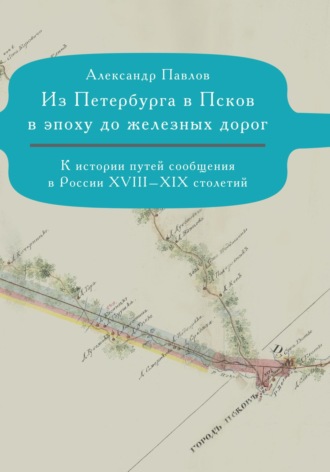
Александр Павлов
Из Петербурга в Псков в эпоху до железных дорог. К истории путешествий по России
Схожая ситуация возникла и в городе Луге, проходя через который Порховский тракт становился его главной улицей, быстро обросшей непременной городской суетой. Покорно растянулся вдоль этой большой дороги и Гатчинский посад.
***
Еще в XVIII веке Порховскую дорогу иногда называли Белорусским трактом, в следующем столетии название это закрепилось и вовсе. Но ничто не вечно, и затем она отчасти уступила роль главной детищу XIX столетия – Динабургскому шоссе. Местами Белорусский тракт оказался разбитым на другие дороги, участками почти слился с шоссейной полосой и кое-где получил иное предназначение: «Старая почтовая дорога ныне обращена в скотопрогонную и большей частью пролегает параллельно шоссе, а иногда так близко, что между дорогами промежуток до 3 саженей». Впрочем, местные жители нередко предпочитали ездить по ней, уже запущенной – не чинимой, причем не только зимой, но и летом, где шел твердый грунт. Кое-где старая дорога позволяла даже сократить путь.
Эра шоссе в России. Преддверие и начало.
Если строительство спрямленных трактов в России в XVIII веке заключало в себе идею сделать проезд по оным удобнее и скорее, то появление дорог шоссейного типа в XIX столетии воплощало это желание с новой силой. Отныне дорожное покрытие можно было назвать правильно устроенным, обретшим необходимую твердость и многим устойчивее к козням природы, что обеспечивало уверенный проезд по шоссе в любое время года, лучшую сохранность колесного транспорта, а также больший, хотя все же пока относительный, комфорт путешествующих. Скверность дорожного полотна увеличивало цену проезда, это вполне понималось современниками. Что до шоссейных магистралей, то их строительство выглядело шагом навстречу (само собой разумеющемуся) желанию людей ездить дешевле, чаще, дальше, быстрее, безопаснее и без мучений.
Возникновение шоссе в Европе – закономерность, и несколько крупнейших держав к первой половине XIX века имели уже сеть таковых. Но Россия не входила в это число, и даже к началу XX века находилась в числе отстающих. Передовые способы дорогостроения зарождались только там, где в них более всего нуждались, где имелись весомые преимущества для насаждения и развития идей, прежде всего, в Англии и Франции; а затем заимствовались другими странами (недаром дорожное дело в России стало развиваться весьма успешно при деятельном участии французских инженеров, перешедших в русскую службу ). В Британии не вынашивали национального плана по развитию дорог подобно французскому, но, наблюдая за необычайным развитием здесь видов колесного транспорта еще с позднего Средневековья и законодательством по ограничению движения на дорогах, становится ясным, отчего техническая мысль в Англии так рано устремилась к тому, чтобы сделать дорожное покрытие несокрушимее от разрушительной силы колес. Отсюда изобретения Джона Меткальфа, а позже и создателей принципов устройства шоссейных дорог – Джона Макдама и Томаса Телфорда, шотландских инженеров, а еще французских – Пьера-Мари-Жерома Трезаге (система укрепления дорожного полотна, усовершенствованная им, была применена также в России при постройке шоссейных дорог в 1817 г.) и Антуана-Реми Полонсо (ввел укатку щебеночной одежды) неслучайны. Им, как никому, первыми довелось открыть занавес в эру шоссе – дорог принципиально нового типа.
В России проблемы избыточного движения по дорогам долго не замечалось ввиду слабости торговых и общественных отношений, а запасы казны не позволяли в течение почти всего XVIII столетия подойти к реформированию дорожного дела с воистину имперским размахом. Внимание уделялось лишь нескольким трактам, прежде всего, обеспечивающим торговлю с внешним миром, на содержание которых с завидным постоянством отдавалось немало денег. Некоторые из них делались на протяжении долгих лет или десятилетий, и неудивительно оттого, что главный государственный тракт, связывавший две российских столицы, называли стройкой века. Но эпоха (такова ее суть) изобиловала случаями противоположными – нередко и поспешно прорубали большие дороги ради особых событий, таких, как проезд высочайших особ или поход войска.
Значительный подъем экономики России впоследствии привел к более напористым попыткам связать лоскутки империи самым прямым способом – надежными дорогами. Однако, в государстве вплоть до 1809 г., когда возникло Главное управление путей сообщения, невозможно было заниматься этим в должной мере профессионально. Вообще работы по обустройству больших дорог требовали немалых средств. Разгул природы серьезно обезображивал грунтовые тракты, а вопрос их восстановления приносил российскому правительству нескончаемую головную боль. Ее сбавляли, пользуясь известными рецептами и находя новые. В XVIII – начале XIX веков при проведении дорожных работ, как и в старину, немалую роль играли крестьяне, отрабатывавшие барщину, а также находившиеся на службе военные – все ради сокращения казенных расходов. Но вольный найм работников, разумеется, тоже существовал.
Из рядов военных начиная с правления государыни Елизаветы I пополнялся штат дорожных ведомств, и c ходом времени традиция эта упрочнялась, правда в 1867 г. ведомственные чины сделали гражданскими. Что до крестьян, власть понимала, какие значительные неудобства терпели они, отрываемые от своих хозяйств, вынуждаемые подчас бросать полевые работы ради благоустройства трактов. Но вовсе покончить с дорожной повинностью не представлялось возможным и отчасти в XIX веке, поэтому кнут и пряник находили свое неизменное применение.
Во что выливалось местами излишнее отягощение жителей сел и деревень, можно судить хотя бы по случаю, произошедшему на стыке двух столетий. Во всеподданнейшем рапорте тайный советник, псковский гражданский губернатор (с 1798 по 1800 гг.) Николай Андреевич Беклешов писал: «сего числа получил я от островского земского комиссара Ладыженского рапорт, что той округи Плеской економической волости голова с крестьянами, в сдаче работников для обработки, проведенной вновь для высочайшего вашего императорского величества шествия от города Острова к Люцину большой дороги, оказались ослушными. Тем комиссаром был взят голова под караул, то оного крестьяне собравшиеся отняли… прочие покушались бежать на колокольню и бить в колокол тревогу. Земский комиссар был не в силах привести их в исполнение». Дорожные бунты в XVIII веке, увы, не были редкостью.
Литератор, историк и государственный деятель, князь Петр Андреевич Вяземский с гневом обрушивался на деятельность путейского ведомства и в первой четверти XIX века. «В это время, – писал он – дорожная деятельность и повинность доходила до крайности. Ежегодно и по нескольку раз в год делали дороги, переделывали их и все-таки не доделывали, разве под проезд государя, а там опять начнется землекопание, ломка, прорытие канав и прочее. Эти работы, на которые сгонялись деревенские населения, возрастали до степени народного бедствия. Разумеется, к этой тяжести присоединялись и злоупотребления земской администрации, которая пользовалась, промышляла и торговала дорожными повинностями».
***
Первым шоссе в Российской империи, конечно же, оказалось связавшее собой Санкт-Петербург и Москву, смету на работы по которому правительство одобрило еще в 1816 г. За прекрасной идеей открыть и обслуживать множество подобных ему возникало ясное понимание – тяжести расходов не миновать. Для достижения цели по соединению страны шоссейными дорогами важно было научиться одному – умнее распределять ресурсы. Одной исключительно казны попросту не хватило бы на все. Не нашлось бы в достатке и профессиональной силы – рабочих, мастеровых, специалистов Корпуса инженеров путей сообщения для забот по благоустройству всех дорог и расширению их карты.
Как следствие из обозначенного выше, с 1830-х гг. государство брало на себя обязательство устраивать и содержать лишь дороги главных сообщений – государственные шоссе. Они выделялись из числа прочих больших дорог, поставленных под управление губернаторов и обустраиваемых «от земли», т.е. от земских сборов. В целом все сухопутные артерии России поделили на 5 классов исходя из их степени значимости. К главным государственным трактам согласно указам 1833 и 1834 гг. причислили и еще строящееся шоссе из Санкт-Петербурга на Динабург, а также пока не начатое, в будущем соединившее Псковскую губернию (а вместе с тем и имперскую столицу) с Витебском, Могилевом, Киевом и Одессой .
***
Первые шоссе в России создавали, используя иностранных специалистов и опыт, но, оказалось, что более суровые природные условия здесь, нежели в Западной Европе, просили своих уточнений, например, в отношении настила из щебня. Несомненно одно: собственный опыт учил российских инженеров самостоятельно совершенствовать знания, принесенные из другой Европы.
Динабургское шоссе. Начало изысканий для строительства
В журнале Государственного Совета от 25 января 1829 г. отмечалось: «новое шоссе предполагается потому… что ныне правительство печется о украшении и поощрении к торговле сего предместья». Речь шла о Динабурге. К тому времени этот город уже 50 лет как входил в состав Российской империи, состоя поочередно в Псковской, Полоцкой, и, наконец (с 1802 г.), Витебской губернии. В течение XIX века он, испытавший на себе огонь Отечественной войны 1812 г., приобретал черты важного форпоста (крепость строилась на протяжении 1810—1878 гг.) и крупного центра торговли и промышленности на западном российском рубеже. Появление шоссе, этакого воплощения на тот момент передовых инженерных знаний, разумеется, способствовало развитию Динабурга (в 1893 г. город переименован в Двинск, с 1920 – в Даугавпилс).
Изыскания по прокладыванию шоссе из Гатчины через Псков в Витебскую губернию начались в 1827 г. Проводил их потомственный псковский дворянин Николай Степанович Волков, инженер-капитан Главного Управления путей сообщений, владевший познаниями в географии и всеобщей истории, статистике, элементарной и высшей математике, геометрии, механике и физике, артиллерии и фортификации, архитектуре, плотницком искусстве и резьбе по камню, а еще полиглот. Внимательно изучив все нюансы, он составил специальную инструкцию, описывающую два возможных направления новой дороги. Первое направление подразумевало движение от Санкт-Петербурга через Царское Село, Гатчину, Лугу, а оттуда по существующей большой Белорусской дороге до станции Феофилова Пустынь, от которой «сколько возможно, прямого направления в Псков. Через Остров, Люцин и Ретицу в Динабург или от Острова минуя Люцин. Прямо от Ретицы в Динабург, минуя Ковно». Второе направление, как посчитал Волков, могло быть следующим: от Санкт-Петербурга через города Ямбург в Нарву. Оттуда далее через Гдов в Псков.
По первому варианту расстояние составляло 280 верст, по второму 320. Преимущество последнего направления согласно соображениям инженер-капитана заключалось в том, что «дорога от Петербурга в Нарву хоть и не обращена в настоящее шоссе, но с давнего времени усовершенствована». Тем не менее император 11 июня 1827 г. соизволил дать ход более затратному предложению, понимая с одной стороны то важное значение для селений, которое приобрела бы предполагаемая дорога, а с обратной руководствуясь желанием таки сократить длину пути. Ведь лишних 40 верст тогда означали в среднем где-то полдня дороги без учета остановок.
А что было дальше? Выбрав направленность, приступили к уточнению самой линии новой дороги. Незаменимый Волков для этих целей отправлялся на местность. Убедительные наблюдения его легли в основу проекта нового шоссе от Санкт-Петербурга до Ковно, раскрытого в докладе главноуправляющего путями сообщения от 1829 г.:
«От Санкт-Петербург до Гатчины направление дороги не подлежит никаким изменениям. От Гатчины до Луги проложена прямо по линии до д. Колпина. От сей деревни до с. Никольское она соединяется с существующей дорогой, которая имеет прямое направление.
В ст. Долговка проведение дороги очень затруднительно, по той причине, что берег реки Ящеры по которому идет теперь дорога весьма надмывается весенними водами.. для этого шоссе проектировано позади деревни на находящихся там возвышенностях, что побудит жителей сей деревни к переселению от берега реки на дорогу и избегнуть тем самым гибели..
От ст. Городец до деревни Заполье настоящая дорога имеет весьма большую кривизну, а по сему предполагается новая линия сколь возможно прямее миновав озеро Крицкое.
Сие направление только не совсем выгодно, что проходить будет на 2 верстах через глубокое болото, но с другой стороны сокращение дороги 6ю верстами столь значительно, что будет выгодно предпринять осушение болота.
До ст. Феофилова пустынь линия шоссе идет, следуя почти везде направлению дороги, но от сей станции до г. Пскова на 129 верстах по большой дороге линия оставляет оную совершенно в стороне, сокращая расстояние 49 верстами.
Посему новому направлению линия шоссе идет по местам ровным, и не встречает ни одной значительной реки, ни топкого болота, даже гористой местности.
Всего расстояние от Пскова до Гатчины по большой дороге 285 версты, а по новой – 226 версты. По всему направлению каменный материал имеется в близости в достаточном количестве.»
Участок шоссе от Пскова до Динабурга в докладе также предлагалось спрямить: «Города Остров и Ретицы лежат почти по прямой линии от Пскова до Динабурга, и поэтому взяты за постоянные точки. Расстояние от Пскова до Острова по существующей дороге 52 версты, по новой 48».
Строительство Динабургского и Киевского шоссе.
Строительство Динабургского шоссе началось в 1830 г. со сбора первой военно-рабочей роты. Потом появились другие, ведь дорогу делали участками, и в этом задействовались тысячи людей. В воспоминаниях капитана 11 округа путей сообщения Василия Николаевича Погожева, командира одной из таких рот, направленной в 1832 г. на прокладку шоссейного полотна между Санкт-Петербургом и Динабургом, можно отыскать несколько особо запомнившихся ему эпизодов той истории:
«В лесу, в небольшой деревушке, в 40 верстах от Пскова назначено было расположить мой ротный двор; но я купил у помещицы десятину земли близ шоссе, построил для себя дом и все необходимые помещения для нижних чинов, как то: караульню, цейхгауз, сарай, конюшню для четырех казенных лошадей, макет для учений солдат фронтовой службе в армии в зимнее время, развел огород и назвал мое новое жилище «Перепутьем». Это название очень приличествовало моему ротному двору, потому ко мне было много заезжих, более по службе…
«Рота моя состояла из двух обер-офицеров, 10 унтер-офицеров и 300 рядовых с необходимым числом нестроевых нижних чинов» – писал Погожев. «В составе этой роты, коей я был вскоре назначен командиром, поступило до 100 польских мятежников, из которых большая часть были люди честные, ловкие. Но было и несколько отъявленных негодяев, строптивых и беспокойных.
Рота была рассеяна от города Гатчины до Динабурга на протяжении 460 верст. Я должен был раза три в год объезжать это пространство, а жалованье, порционные и провиантские деньги развозили то фельдфебель, то каптенармус, и я каждый раз во время моих объездов, опрашивал нижних чинов, все ли положенное сполна получают. Жалоб никогда не было. Управляющий работами полковник Фролов и начальник штаба ежегодно производили инспекторские смотры, и тоже никогда жалоб и претензий не было. Я оставался спокоен, и вдруг возникли претензии нескольких рядовых на получение ими сполна провианта.
Однажды в день инспекторского смотра, в 6 часов вечера, во время моего обеда, входит фельдфебель и говорит, что рота взбунтовалась (в сборе на ротном дворе.. было человек сто). Я выбежал на ротный двор, скомандовал – Смирно!» … К счастью, на том бунт был продолжения своего не получил, а зачинщики были прощены».
Участок Динабургского шоссе в пределах Санкт-Петербургской губернии прокладывали или по уже существующему Белорусскому почтовому тракту, или в некоторых местах близ него – на расстоянии от 30 до 50 метров. Если говорить о разных отрезках шоссейной дороги, то все они открывались для проезда неодновременно. Так, к 1835 г. в пользование сдали часть шоссе от станции Феофилова Пустынь до города Острова, а с 1839 г. продолжали отстраивать его же, приближаясь к Динабургу и тех местах, относительно которых прежде имелись вопросы. В 1841 г. департамент путей сообщения предлагал направить магистраль через город Лугу – по его Покровской улице до площади соборной церкви. Оттуда дорога должна была влиться в другую городскую улицу – Успенскую, но требования сохранить в целости классическую планировку Луги в итоге возымели свое. Миновало два года, и Николай I наконец утвердил окончательный проект . Согласно нему шоссейное движение в пределах города обходило бы соборную площадь стороной, по Базарному переулку. На Покровскую улицу с Успенской переносились Санкт-Петербургские ворота, встречавшие всех въезжающих в Лугу и известные со времен существования Белорусского тракта. Успенская улица перестала быть главной. Центр города начал менять облик.
Расставание с грунтовой большой дорогой, и появление вместо нее дороги шоссированной, разумеется, воспринималось современниками крайне необходимым событием. Хотя Погожев, руководивший строительством участка Динабургского шоссе, вспоминал, что «сначала проезда было мало, а потому и прогонов собирали немного, шоссе не было укатано, и ноги лошадей от непривычки лошадей бегать по щебенке портились». Обратившись к записи от 17 августа 1839 г. в дневнике барона Модеста Андреевича Корфа (в будущем известного как директора Императорской публичной библиотеки), ехавшего из Луги в Санкт-Петербург по щебенчатому полотну, читатель обнаружит строки: «Как Александр создал Московское шоссе, так Николай созидает теперь между разными другими Динабургское или, лучше сказать, Ковенское, потому что оно идет до самого Немана и там переходит в шоссе Польское. Большая часть сего нового шоссе уже готова и открыта для проезжающих, но между частями еще недоделанными остается пространство от Гатчины до Луги около 100 верст. Прежняя дорога, жердочная и частью с каменной насыпью, была всегда прескверная, а теперь, когда, в ожидании шоссе ее не ремонтируют, натурально еще хуже, но главная опасность не только для экипажей, но для жизни там, где шоссе впадает в русло прежней дороги и где сделаны боковые объезды. Беспрерывные теперешние дожди так растворили эти временные проезды, что верстах в 12-ти за Гатчиною, т.е. менее 60-ти от столицы, карета наша на шестерке совсем засела в грязь и ее надо было выкапывать ломами! Потомки наши, катаясь тут по гладкому шоссе, конечно, будут принимать такие похождения за баснь точно так же, как мы теперь не верим, что на проезде между Новгородом и Бронницами (25 верст) употребляли некогда по 14 часов!» .
Как соединяющееся с Динабургским, в 1849–53 гг. строилось Киевское шоссе (от города Острова и через города Опочку, Невель, Витебск, Оршу, Могилев и до города Бровары близ Киева, всего 794 1/2 версты). Непосредственно участок в Псковской губернии открыли уже 1 августа 1849 г. В собственном дневнике опочецкий купец Павел Лобков отметил: «Сего 1849 года провели через наш город Опочку шоссе и открыт большой тракт на Невель в Бобруйск с 1 августа. 1850 год. Май 5, в 11 ч. пополудни, проезжал государь император Николай Павлович с наследником, великим князем Александром Николаевичем в одном экипаже, на Витебск. Город Опочка был улиминован и обрадован первым проездом их императорского высочества. И государь по шоссе впервые проехал».
C основанием Киевского шоссе окончательно утратил былую значимость Белорусский тракт. В Псковской губернии он сохранял статус большой дороги почти всю первую половину XIX столетия, но отныне превращался в путь местного значения . Гладкое шоссе, на которое перенеслось основное действо, имело отличную от тракта линию, не пролегавшую через Порхов и Великие Луки, а прямиком устремлялось к конечной своей точке на юге империи. Замысел создать такую шоссейную магистраль отмечался еще в 1834 г. – из центра страны в южные земли почти не наблюдалось приличных дорог . Но от правды не уйти: и десятилетием спустя Россия располагала незавидной цифрой государственных шоссе – всего четырьмя .
***
Интерес к надежным сухопутным сообщениям, благодаря которым путешествия могли быть менее утомительными в любое время года и различную погоду, менее долгими и не такими затратными, подталкивал власть и общество во второй половине XVIII и XIX веках искать соответствующие решения. Города, принимавшие в свое лоно все больше и больше людей, скапливающие в себе знания и другие богатства благоговели перед изобретениями, способными укреплять и уплотнять связи между жителями. Дороги, почта и телеграф превращались в средства и инструменты общего пользования.
В части развития дорожного дела и транспорта общество и власть выступали как потребителями, так и созидателями. Когда интересы обеих сил соединялись, то усилия предпринимались совместно. Так, в екатеринскую эпоху частные лица по инициативе правительства смогли брать на содержание почтовые станции (до того времени почтовое дело связывалось государевой службой). В первой четверти XIX века предприниматели, наоборот, уже сами испрашивали у государства поддержки в их начинаниях по созданию транспортных обществ – воплощению мечты о появлении в России регулярных перевозок пассажиров. Дилижансовые пассажирские сообщения, принесшие новую культуру путешествий, явились предтечей эпохи железных дорог.
С ростом промышленности в государстве возникает фигура изобретателя, готового прийти на помощь перевозящим грузы, прежде всего, крупным промышленникам. Петр Кузьмич Фролов (автор 2-х километровой грузовой чугунной дороги на Алтае и проекта чугунной дороги протяженностью 146 км), братья Черепановы (создатели первой в России паровой рельсовой дороги на Урале), и Василий Петрович Гурьев (разработал проект сети дорог различного типа) – личности, приход которых случайным не назвать..
Возникновение щебенчатых шоссе, постоянно поддерживаемых в надлежащем состоянии и появление дилижансов позволило увеличить скорость езды (по сравнению с путешествием на перекладных) двукратно. О шоссейных дорогах современники вспоминали почти как о чуде. Благодаря развитию почтовых и курьерских сообщений, а затем появлению телеграфа передача сведений и перевозка грузовой клади также ускорилась.
Удивительное явление, знакомое человечеству – когда одни чудеса безнадежно устаревают, технологии исчерпывают себя, их место занимают другие. Иногда для смены этих вех требовались столетия, порой – десятки лет или даже годы. Воистину грандиозным событием середины XIX века стало появление железнодорожных магистралей. Необходимость в чем-то подобном обуславливалось ускорением жизни внутри общества, особенно в городах. В этом аспекте Крымская война для России явилась лишь сигналом к необходимости скорее насытить страну железными дорогами. Ведь скорость – стратегическая величина не только в войнах, важна она и в мирный час.
Проложение дорог из Санкт-Петербурга в Белорусские губернии, в сторону Киева, Динабурга, Ковно и Варшавы характеризовалось использованием типичных приемов, коими пользовалось российское правительство при обустройстве самых важных маршрутов по суше в XVIII и XIX столетиях. Ведь апробацию на этих дорогах проходило все, что называли передовым..


