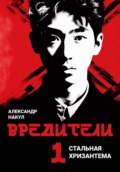Александр Накул
Целестина
3. Сопротивление
1
Цеся (именно так образуется уменьшительная форма от имени «Целестина» – и никак иначе!) родилась и выросла далеко отсюда, среди чёрных лесов Малой Польши. Но за первый учебный год она уже успела полюбить Брест-над-Бугом.
Сперва о путешествии в Полесское воеводство не шло и речи. Её собирались послать в краковскую гимназию, к каким-то дальним родственникам. Отец, человек прогрессивных до опасного взглядов, сказал на прощание, что гимназия поможет ей «вырваться из идиотизма деревенской жизни».
В краковской гимназии дело, однако, не заладилось. Не прошло и недели, как дождливым, ветреным вечером, одним из тех, в которые ночь наступает раньше времени, кто-то принялся стучать ногами в дверь особнячка Крашевских.
Это была Целестина, только что с вокзала. На шляпке сверкали капли дождя, в руках – всё те же чемодан и саквояж. Ручку саквояжа обвивал, словно змея, початый круг краковской колбасы.
– Цеся, ты чего вернулась? – только и спросил отец.
– Не буду там учиться!
– Тебе учителя не нравятся? Или одноклассницы?
– Обои там в квартире некрасивые, – ответила Целестина. – Разве можно учиться с такими обоями?
– Ну ты, Цеся, и фанарэбная пани, – заметил отец. – Разве можно так привередничать? А как же национальное объединение? Угроза большевиков…
– Вот именно, – согласилась Целестина. – Мало нам большевиков, так теперь ещё и обои!
И вот родители посовещались, подумали – и отправили её к пани Крашевской в Брест-над-Бугом. Старая генеральша тоже была родственницей, только по другой линии.
Сначала Цеся немного боялась – ведь город расположен поблизости от тех самых большевиков. Вдруг они тут по улицам, как волки, бегают… Оказалось – ничего подобного. Она быстро привыкла.
Большевиков вспоминали как анекдот. Да и мало кому их было вспоминать – за годы Великой Войны город обезлюдел, и его строили почти заново.
Крепость была окутана тайной, Целестина видела её только издали. Длинные красные стены казарм тянулись через всю линию горизонта.
На главной площади было куда интересней, она вполне могла бы достойно украсить какой-нибудь немецкий вольный город. А нарядных особняков, как в колонии Нарутовича, не найти даже в Варшаве.
От роскошной площади в обрамлении трёх административных районов расходились бульвары, переходя во вспученные улочки. Тамошние одноэтажные домики были похожи на сундуки, а внутри кварталов шелестели яблони палисадников. В этих домах, особенно ближе к гетто, было определённо что-то таинственное.
А если пойти дальше по Шоссейной, то буквально через пару кварталов железной дороги город вдруг превращался в типовую деревню с курицами в огородах и коровами, которые провожают тебя сонными глазами. Здешняя жизнь была непонятной, но какой-то очень простой и незагадочной – несмотря на то, что среди жителей еврейского квартала было немало знатоков Каббалы.
Гимназистке из колонии Нарутовича делать там было нечего. Так что Целестина была там только пару раз. В шести кварталах вокруг главной площади можно было отыскать всё, что нужно девице её лет: Городской сад, симпатичные лавочки и кинематограф.
Всё это было новым, свежим и уже немного таинственным. И за эту таинственность Целестина была готова простить городу всё: и лужи на дорогах, и коз в городском саду, и даже обязанность изучать на литературе поэзию Яна Кохановского.
Дома тоже было хорошо, хотя пани Анна Констанция наводила жути. Повар и горничная забавляли даже своими недостатками.
Единственной проблемой был восемнадцатилетний Андрусь, ещё один младший родственник старой генеральши. Этот невольный сводный брат порядочно раздражал.
2
Андрусь был высоким, тощим и неуклюжим, с овальной, коротко остриженной головой, которая больше походила на камень-голыш, обкатанный водой Северного моря. Он был из тех парней, которых бы исправила военная выправка. Но вместо этого он оканчивал смешанную гимназию имени Траугутта. Ту самую, где предстояло учиться Целестине. И был очень озабочен политикой.
Он так и не решил, чем заниматься после гимназии. Целыми днями сидел в своей комнате на втором этаже, прикуривал папиросы от зелёной лампы и рассчитывал по атласу возможные военные блоки.
За ужином разговор начинался с городских новостей. Но бабушка Анна Констанция знала, к чему идёт, и вовремя умолкала, чтобы молча жевать, слушать и наблюдать, как Андрусь доходит до белого каления.
Целестина так и не поняла, как она к этому относится.
Андрусь не понимал, как можно идти на службу. Или в училище. Или поехать куда-то, поступить в университет. Или пойти в армию. Или жениться. Или что угодно ещё. Неужели неясно? Когда сейчас в мире такое творится… Неужели хоть что-то имеет значение? Ведь в любой момент может начаться война, а то что похуже.
– Пан Андрусь – военнообязанный, – произносила в ответ старая генеральша, – и достаточно здоров, чтобы служить и погибнуть.
– Я знаю.
– А я – напомнила.
– Каждый из нас что-то должен делать в это время.
– Как сказал поэт, такие дети, как наш Андрусь, – тягота, а не награда, – отвечала Анна Констанция. И продолжала жевать.
Андрусь так и сидел над нетронутой тарелкой, сжимая ложку, словно это была рукоять сабли. Да только рубить было некого.
– Как пани думает, – вдруг спрашивал он, – мы сможем заключить союз с Германией и ударить по русским?
– А кто там сейчас канцлер? – бабушка щурилась. – Помню, он чернявый такой, а фамилия нелепая, всё время забываю.
– Гитлер! – с готовностью подсказал Андрусь.
Бабушка брезгливо поморщилась.
– Ну и фамилия… Еврей, что ли?
– Нет. Из австрийцев. Радикальный националист, считает нашего маршала Пилсудского своим учителем.
– Таких радикалов сейчас, – ответила генеральша, – как говна за баней.
С Целестиной у Андруся тоже были проблемы. Не то чтобы он ревновал её к вниманию старой генеральши. Пани Анна Констанция жила своей жизнью, и добиваться её внимания было бесполезно. Просто теперь у него было с кем спорить, кого травить, с кем бороться, кого защищать, когда она этого совсем не просит.
К тому же Целестина ходила с ним в одну и ту же гимназию – смешанную, имени Траугутта. Ту самую, напротив русской церкви с синими куполами, возле которой во время репетиции похорон поворачивал похоронный кортеж.
Первого сентября 1939 года Андрусь ждал с тревогой. Родители (они у него наверняка были) хотели знать его решение насчёт образования или карьеры. А никакого решения у него не было.
После ужина Андрусь разгуливал по комнате, размахивая руками, репетируя какие-то речи. Иногда он взмахивал руками и делал выпад – словно поражая невидимых врагов.
Видимо, со временем должен был случиться скандал. Целестина уже готовилась узнать, что у него за родители.
Но первого сентября Гитлер напал на Польшу и этим спас Андруся от скандала.
В гимназию Андрусь шёл молча. Щурился на небо – не летят ли там немецкие самолёты. Но в гимназии всё было по-прежнему, даже занятия не отменили. Одноклассники на переменах убеждали друг друга в скорой победе польского оружия.
Домой Андрусь вбежал раскрасневшийся и с газетой в руках, огромной, как скатерть для праздничного стола.
– Бабушка, видите? – кричал он, подпрыгивая на полу прихожей, где чёрные и белые квадратные плитки выстроились в шахматном порядке. – Вы посмотрите, что пишут… Я же говорил!..
– Пан много чего говорил, – отрезала генеральша.
– И оказался прав. А значит, надо…
– А значит, надо молчать.
– Почему молчать? Сейчас же самое время, чтобы настоящие патриоты…
– Сейчас самое время привыкать. Привыкать к молчанию. Это не у всех сразу получается.
– Что пани Анна Констанция говорит такое?..
– Учись молчать. За неправильные разговоры скоро будут убивать, – сообщила Анна Констанция и заковыляла к себе в кабинет.
Андрусь посмотрел ей вслед с уважением. Наверное, ему подумалось, что она могла застать восстание 1863 года.
Насчёт 1863-го можно было и поспорить – не девяносто же ей лет. Хотя от Анны Констанции можно ожидать чего угодно.
Бабушка точно застала Великую Войну. И обычному человеку уже этого будет достаточно. А тут генеральша Анна Констанция – с её связями, причудами и неуживчивым характером.
Андрусь попытался не подчиниться. У него ничего не вышло. Анна Констанция знала какую-то хитрость, которая заставляла его замолкать при её появлении – и лишь бессильно таращить глаза, пока изнутри, под униформой гимназиста, его распирают свежие международные новости.
Занятия в гимназии продолжались как ни в чём не бывало. Брест-над-Бугом пока не бомбили и о войне слышали только по радио.
3
На выходных сообщили о боях под Томашувом-Мазовецким и что польская армия стратегически отступает. Уже в понедельник на переменах шептались, что всех городских немцев арестуют и запрут в концлагерь. Но из этой затеи может ничего не выйти – ведь в жёлтой лютеранской кирхе, что неподалёку от площади, спрятано секретное оружие.
Вспомнили даже, что маршал Пилсудский был из лютеран. Неясно, что из этого следовало. Но этот факт почему-то казался всем очень важным.
После уроков Андрусь пошёл обыскивать кирху. Нельзя было допустить, чтобы секретное оружие попало в руки врага.
Надо сказать, что кирха сама по себе выглядит подозрительно. Построенная в функциональном стиле, она казалась сложенной из правильных параллелограммов, а формой напоминала большой жёлтый обелиск, установленный по неизвестному поводу.
Андрусь забрался внутрь через окно второго этажа, чтобы обнаружить: внутри пусто. Обшарив все углы, он попытался выйти через парадный вход, но оказалось, что там заперто.
Ну и ладно. Андрусь решил вернуться тем же путём, которым пришёл. Поднялся на второй этаж и уже там обнаружил, что за время его отсутствия окно бесследно исчезло.
– Эй, что за шутки! – возмутился Андрусь и принялся молотить кулаками туда, где, по его расчётам, было окно.
Возможно, тут была замешана лютеранская магия. Не зря среди лютеран столько алхимиков! А может быть, они сговорились с евреями из гетто и применили магию Каббалы?
Простейший вариант просто не пришёл ему в голову. Каббала и алхимия были ни при чём. Просто плотник, нанятый магистратом, пришёл к кирхе с приставной лестницей, чтобы не выяснять, где ключи, и заклеил окно фанерой для светомаскировки.
Фанера была самая обыкновенная. Такую легко пробить даже кулаком. Но Андрусь не смог – потому что перепутал направление и вместо окна молотил по деревянным перегородкам.
Со временем даже до него дошло, что это не помогает. И решил разрушить магию молитвой. Прочитал «Отче наш» (по-польски). Не помогло. Тогда затянул «Te Deum» на латыни. Ведь молитвы на латыни куда сильнее, ангелы берут их в производство вне очереди.
Но, похоже, не блиставший в хоре Андрусь фальшивил слишком сильно. Ангелы не услышали его молитв. Зато услышал проходивший мимо обыватель Кастрициан Базыка. Сперва он просто снял картуз и перекрестился. Пение и удары продолжались, как ни в чём не бывало. Тогда обыватель Кастрициан Базыка ускорил шаг – и тут же наткнулся на жандарма.
Перепуганный Кастрициан всё сразу и выложил. Так и так, из запертой лютеранской кирхи раздаются загадочные голоса. Возможно, сатанисты устроили там шабаш с целью подрыва духовных сил народов Второй Речи Посполитой.
Дело было серьёзное. Кирху оцепила полиция. Рядом прохаживались агенты контрразведки в одинаково серых штатских пальто. А из костёла, который был буквально в соседнем квартале, по ту сторону садовых зарослей, прибежал ксёндз Фабиан – чтобы нейтрализовать оккультную угрозу.
Когда на первый этаж ворвались неизвестные, Андрусь принял их за чертей и принялся отбиваться. В итоге, с подбитым глазом и уже без форменной фуражки, его запихнули в воронок и повезли в крепость, в гарнизонную тюрьму. Именно там польские власти содержали шпионов, сатанистов и слишком буйных депутатов парламента.
Он оказался недостаточно опасен, чтобы его держали в Бригитках, поэтому пришлось довольствоваться камерой в гарнизонной тюрьме. Андрусю там не понравилось. Сначала его посадили в одну камеру с депутатом поветового совета, который оказался коммунистом, и жутко бородатым мельником из-под Вильны – этот сидел по обвинению в колдовстве.
Сознательного гимназиста вызвали на допрос прямо посередине важного спора с соседями по поводу земельной реформы. А допрашивал незнакомый полковник, толстый, с отяжелевшими от пота усами и очень усталый от всей этой беготни.
– Зачем ты это устроил? – спросил полковник, даже не поднимая голову от бумаг.
– Я с чертями сражался, – ответил Андрусь. Потом спохватился и добавил: – Я думаю, это были красные черти.
– Почему красные.
– Ну, коммунистические.
Полковник жевал губами и по-прежнему не поднимал голову.
– Это было несвоевременно, – наконец произнёс он.
– Да, я знаю. Возможно, нам надо попытаться заключить с ними…
– Проваливай!
Выходить из крепости пришлось через Северные Ворота. Главные уже были к тому времени перекрыты допотопными лёгкими танками.
Над земляными валами синхронно взмывали лопаты. Гарнизон рыл окопы и пытался что-то минировать.
Экипажа арестованным не полагалось, поэтому от крепости до колонии Нарутовича Андрусь добирался пешком, через заросли и буераки уцелевшей полосы эспланады. Над головой медленно, как шмели, проплывали грузовые самолёты. Они делали полукруг и уходили на посадку за железную дорогу. Гимназист знал – там, возле Адамково, недавно расчистили временный военный аэродром.
Андрусь так на них засмотрелся, что и не заметил, как свалился в небольшой топкий прудик, неведомым образом возникший буквально в десятке шагов от стадиона имени Пилсудского.
Домой он пришёл ещё мокрым. И сразу, с порога, рассказал Целестине о самолётах – чтобы избежать лишних вопросов.
– Это штабные архивы перевозят, – ответила Целестина. Она узнала про архивы от бабушки. А откуда это знала бабушка – как обычно, было совершенно неизвестно.
– Видишь, как много значит наш город! – радовался Андрусь. – Штабные архивы куда попало не повезут.
– Угу, – отозвалась Целестина, – теперь, когда штабные архивы в городе, нас тоже будут бомбить.
4
Бомбардировщики видели с первых дней войны, но они пока бомбили только крепость. Не хотели тратить бомбы на жилую застройку, которая и так будет захвачена.
Однако в городе хватало и других тревожных событий. Уже на следующий день по гимназии объявили, что пан директор велел всем вместо третьего урока собраться на внутреннем дворе. И сразу стало ясно: дело серьёзное. На это указывала архитектура гимназии.
Тут надо сказать, что смешанная гимназия имени Траугутта построена в форме пустого квадрата, опоясанного коридорами на первом и втором этаже. Внутри квадрата – внутренний двор, а посередине двора – не менее квадратный домик административного корпуса. На первом этаже этого домика – канцелярия, а на втором – архив и кабинет директора.
Таким образом, огромная гимназия при желании просматривается насквозь прямо из кабинета пана директора. И переделать её в казарму или тюрьму, как это делали буры в Южной Африке, можно за один вечер.
Внутренний дворик – единственное помещение в гимназии, куда можно собрать всех и сказать им что-то очень важное. Точно так же, как на прогулочный дворик в тюрьме можно, если надо, собрать всех заключённых и что-нибудь им объявить. И вот что важно – таких собраний уже давно не было.
Как объяснили Целестине девочки из местных, последний раз так собирались года четыре назад, когда умер маршал Пилсудский. Но это был человек настолько большой государственной важности, что и подумать страшно. Все мальчишки почему-то до сих пор называли его Дедушкой или Комендантом и принимались размахивать руками, стоило кому-то упомянуть его обычное имя.
За годы существования гимназии дворик уже успел обрасти молодыми деревцами и какими-то кустами местной фауны, которых нет в учебнике биологии. Так что тем, кто был из младших классов, было куда спрятаться – на всякий случай.
Перед окнами кабинета директора был балкончик. Совсем маленький, так что многие сегодня заметили его в первый раз. Туда и вышел Данилюк – в костюме, с той самой шляпой в руке, которая пыталась от него убежать в особняке генеральши. Целестина чудом удержалась, чтобы не хихикнуть.
Пан директор засуетился и в конце концов положил шляпу обратно в кабинет. Даже здесь, на высоте второго этажа, он казался удивительно маленьким.
И он заговорил. Речь была в его обычном духе. Он читал её без бумаги, без подготовки и только на середине обнаружил, что не знает, как её закончить. Сначала он говорил о том, что сбылась самая страшная из фантазий любого мальчишки – их поколение стало свидетелями войны. Конечно, до нас была ещё Великая Война – но мы родились уже после неё и не знаем, что это такое.
Потом он начал взывать к теням прошлого – Мицкевичу и Словацкому. Совсем недавно у польской нации была лишь тень надежды на восстановление своего государства, разорванного между великими державами. И классики сравнивали поляков с двумя другими народами-изгнанниками – армянами и евреями, у которых нет своей страны и которых встретишь повсюду. (Окажись тут старая Анна Констанция, она бы припомнила и третий такой народ – цыган. Но, к счастью, бабушки тут не было).
И вот всего лишь два десятка лет назад возрождается Речь Посполита. Но враги не дремлют. И сегодня немцы, предположительно подстрекаемые коммунистами, нанесли ей предательский удар.
– Бей немцев! – крикнули где-то сзади. Но голос был слишком детским, чтобы ему кто-то ответил.
А Данилюк продолжал:
– Даже если немцы победят нашу армию, что, – как торопливо добавил пан директор, – совершенно невероятно, это не будет означать поражение народа. Польский народ всё равно сохранит свою культуру, язык и религию, как делал это много лет, лишённый государства. И гимназия вам в этом поможет. Какая бы власть ни установилась в городе, мы будем хранить верность нашему языку, нашей религии, нашим идеалам. Даже если это будут коммунисты, мы останемся поляками и не склонимся перед заразой интернационализма. Пусть нас давят – мы всегда останемся сами собой. Даже если мы потеряем танки и самолёты – сама верность польской идее станет нашим сопротивлением.
Сопротивление…
Целестина почувствовала себя дурно. Она прислушалась к себе, попыталась понять почему. И вдруг поняла – и это понимание пронзило её, словно ледяная игла. Ей полагалось испытывать воодушевление. Но испытать его не получалось. И дело не в том, что пан директор выступал плохо. Его речь воодушевляла. Целестина видела, как светлеют лица в соседних рядах, а над некоторыми головами (особенно у мальчиков) даже начали трещать и прыгать синие искры.
Она догадалась, что это от напряжения. Энергия искала выхода, а выйти ей было некуда.
Пан Данилюк очень много говорил о сопротивлении. Но ни слова – о том, как оно должно происходить. Как сопротивляться-то?
Целестина уже достаточно изучила город, чтобы понимать: сопротивления здесь не получится. Конечно, тут полно топких переулков, загадочных тупиков и таинственных домиков. В Бресте есть где затаиться, даже если на дом упадёт бомба. Но сам по себе город слишком невелик, чтобы по нему можно было легко убежать от облавы. Здесь достаточно поставить по жандарму на каждый перекрёсток – и всем, кто сопротивляется, останется только затаиться.
Куда безопасней сопротивляться из леса, как это делают благородные разбойники. Но наша героиня сомневалась, получится ли такое на этих Кресах – хотя лесов тут, конечно, хватало.
Целестина ни разу не путешествовала на восток дальше Бреста и очень приблизительно представляла себе Полесское воеводство. Поэтому могла только догадываться, где и как тут можно выживать, когда ты вне закона.
Всё родное, знакомое, польское заканчивалось для неё в восточном предместье, оно же деревня Киевка. Дальше были загадочные места с непривычными православными деревнями, руинами поместий времён поэта Мицкевича и бесконечными болотами с лохматой белой осокой.
Единственное, где-то там, среди болот, в Пинске, скрывался иезуитский коллегиум… Но ведь иезуиты тем и славятся, что куда угодно проберутся – и в Китай, и в Таиланд, и в Индию. Вот, даже до Пинска добрались.
Наверное, иезуиты и будут сопротивляться…
Целестина снова прислушалась к речи. Но про иезуитов пан директор так ничего и не сказал.
5
Немцы заняли город так легко и быстро, что комендант не успел даже объявить мобилизацию. В первый день пехота держала рубежи и многие верили, что из Тересполя подойдёт подкрепление. Но к вечеру оказалось, что госпиталь переполнен, а все двенадцать лёгких танков подбиты и годятся только на баррикады.
На второй день штурмовали всерьёз. Немецкие танки вошли в город с трёх сторон: одна колонна через грунтовку к северу от крепости, вторая – с северо-востока по шоссе между Граевкой и Адамково, мимо базы ассенизаторов, а третья – прямо по Шоссейной улице, с востока.
Вокзал и северные форты взяли уже к полудню, и немецкие мотоциклы показались на площади перед уже опустевшей администрацией. Потом до вечера разворачивали на эспланаде артиллерию и бомбили крепость с бомбардировщиков.
Следующие два дня крепость жила отдельно от города. Слышались взрывы, полыхали вспышки, похожие на зарницы. А в город просачивались мобилизованные из гарнизона, в штатской одежде не по размеру и с испугом в глазах. Они прятались в подвалах и ждали, чем всё закончится.
Закончилось всё предсказуемой капитуляцией. А жизнь почти не изменилась – потому что пока не успела.
Гимназия продолжала учить, как и раньше, – потому что других распоряжений не поступило. Сразу, когда затихли выстрелы, директор Данилюк отправился в управу. А потом, как только начали ходить поезда, он поехал в Варшаву, к наместнику, выяснять, что теперь можно, а чего нельзя. А без директора – разве можно хоть что-то менять в учебной программе?
Никого из городских немцев, несмотря на слухи, так и не арестовали. А вот про тех немцев, которые пришли, было и так ясно, что они могут арестовать кого угодно. Поэтому про эту армию пока не ходило даже слухов. Все жили в ужасе поражения, словно их по уши окунули в холодную воду.
Андрусь не сильно отличался от прочих. Он тоже ходил, как сомнамбула, на негнущихся ногах и говорил хрипло, как если бы его грудь была скована льдом.
Дома он тоже молчал.
Наконец, Целестина ухитрилась его поймать и спросить, что он думает.
– Война ещё не закончилась, – пробормотал он в ответ. – Ты же понимаешь, что война ещё не закончилась?!
– Я думаю, – предположила Целестина, – тебе лучше оставаться дома. Не нужно привлекать к себе подозрения!
– Нет. Нельзя! Как раз это и будет слишком подозрительно!
Целестина кивнула. Братик явно смыслил в стратегии и конспирации. Но всё равно не мог ничего сделать против врага.
Потом стало ясно, что всё уже кончено. Все уже знали, что наступление началось, и никто не знал, на какой из возможных границ оно закончится. На всякий случай готовились к худшему.
В среду вечером вернулся директор.
Надо сказать, что даже в смешанной гимназии имени Траугутта училась очень разная молодёжь. И она тоже расслоилась – как было расслоено всё тогдашнее общество. Были совсем гордые деятели, которые после занятий сразу шли домой – и этот дом был обычно на улице Пулавского, по соседству с особняком Целестины. Они считали, что им нечего делить с местным быдлом.
Другие (в основном девочки) чинно гуляли в городском саду под сонные импровизации духового оркестра. Они собирались изучать юриспруденцию или классические науки и очень часто ходили в кино и на концерты – потому что могли себе это позволить. Целестина относила себя к этим – и немножечко к первым, в зависимости от настроения.
Третьи собирались на вокзале. Девочек среди них почти не водилось. Они застёгивали пальто на все пуговицы, смолили коротенькие папироски и собирались учиться на инженера или железнодорожника.
Тогдашний вокзал был настоящим чудом техники – там горели электрические лампы, было отличное водяное отопление, имелось окошечко телеграфного отделения. А ещё был мост, и под мостом проезжали поезда. Можно было смотреть на них сверху вниз, вдыхать копоть и думать, что когда-нибудь такой вот поезд увезёт тебя прочь отсюда в совсем другой, удивительный, мир, где найдётся место твоим способностям.
Где отдыхали четвёртые, которых не принимали даже в компанию на вокзале, – не знал никто. Наверное, подобно первым, они почти не выходили из дома, потому что им приходилось усердно учиться. Или воровали по ночам бельё, чтобы заплатить за учёбу.
Сложно сказать, кто из них был лучше. В каждом слое было что-то хорошее.
Директор вернулся поздно, когда город уже был под коммунистами. И те, кто собирался на вокзале, оказались первыми, кто его увидел.