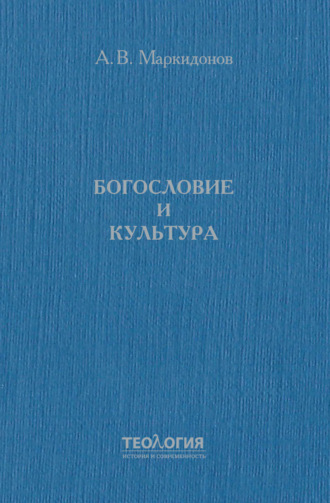
Александр Маркидонов
Богословие и культура
Так что по отношению к событию Божественной икономии, к событию Церкви – ему немыслимо сообразным оказывается только событие веры («Итак по вере, чтобы было по милости» (Рим 4:16)), которое одно способно совершаться в направлении, сопровождающем движение самой Божественной икономии – сверху вниз, от Бога к человеку, где «внезапности» (онтологической дискретности) этого движения соответствует абсолютная свобода (без-условность) самой веры. «Он вопреки надежде поверил с надеждою», – говорит апостол Павел об Аврааме (Рим 4:18).
Вера – разум – естество: о некоторых особенностях святоотеческого сознания
«Несть укорен разум, но вера вышша его есть. И аще укорим, то не разум укоряем; да не будет. Но еже разделити образы премененныя, в них же ходит сопротив вере…»[39]
К русскому переводу этого фрагмента из сочинений прп. Исаака Сирина сделано следующее примечание: «В греческом и древне-славянском переводе читается “естеству”, но у прп. Паисия читаем: “сопротив вере”»[40]. В самом деле, трудно было не обратить особое внимание на то, что прп. Паисий Величковский, осуществляя в XVIII веке новый славянский перевод духовно-подвижнических Слов прп. Исаака Сирина, выражению «разум вопреки естеству» предпочёл, сверх и как будто помимо всех собственно лингвистических оснований, выражение «разум вопреки вере»?
Что же в смыслообразующем пространстве понятия «естество» сделало позволительным и оправданным такое, собственно лингвистически немотивированное, предпочтение? Почему оказалось необходимым потеснить – тем самым, может быть, и обнаруживая в уже утратившем самоочевидность аспекте – это понятие «естества» понятием «веры», причем как раз тогда, когда нужно было выверить место «разума» в человеческом бытии?
Для того, чтобы лишь попытаться ответить на эти вопросы, уже надлежит принять во внимание, что смысловое пространство понятий, при всей их логической определённости, культурно-исторически никогда и никак не однородно. За фасадом общезначимой и исторически долгосрочной логической устойчивости здесь всегда может скрываться такая динамика смысловой архитектоники, которая – изнутри и как бы в пределах общезначимого – грозит развернуться в бесконечно-различное и неузнаваемо-отчуждённое «это именно» реальной истории и реальной культуры.
В античном умозрении универсальное значение сохраняла та первичная интуиция, согласно которой «сущность есть начало устойчивости и самотождественности в бытии и соответственно определённости в познании»[41]. От элеатов до Платона включительно область истинно сущего пребывала по ту сторону как бы то ни было мыслимого изменения. Последнее, в строгом смысле, просто нeмыслимо[42].
Отличив материю от не-сущего как возможность сущего, Аристотель формирует основы физического знания – науки о природе как начале движения и изменения, ибо последнее и мыслится здесь как переход от возможности к действительности. Изменения, в данном случае, ограничены областью сущностей телесных и чувственно воспринимаемых и являются движением в пределах самой сущности – от одного из её состояний к другому.
Изменение остаётся чувственно-опосредованной репрезентацией эссенциального равенства вещи себе самой в разных её состояниях – от возникновения до гибели. Изменчивость угрожает бытию, и от неё свободны в своём бытии сущности духовные и простые. Умная же деятельность высшей из таковых сущностей – Бога – направлена на самого себя, она неизменна.
Самотождественность и определённость сущего обнаруживают здесь значение его онтологически, а потом и этически опознаваемой меры (или границы).
При том, что в известной степени всё это сохраняет свою значимость и для святоотеческого сознания, оно никак не связывает себя антично-философскими дефинициями сущего, хотя и не пренебрегает ими. Везде, где мы встречаемся с опытом систематизации понятий, христианская мысль достаточно прилежно вторит античной онтологии, свидетельствуя тем самым, что она ищет уразумения той же самой реальности творения, которая – в модусе естественной досягаемости – была несокрыта и от язычников[43].
Не достаточно ли, однако, принять во внимание уже самый факт отсутствия доктринально выверенного consensus patrum в области свидетельства Церкви о человеке как образе Божием, чтобы осознать исключительно «подсобный», вспомогательный характер, в частности, антропологических дефиниций в святоотеческом наследии. Свт. Григорий Нисский, один из наиболее «философичных» отцов, последовательно и специально говорит о том, что человеческая природа в модусе её сообразия Богу непостижима, а вне этого сообразия и нет естества собственно человеческого[44].
Об этом же самом пишет o. Иоанн Мейендорф применительно уже к свт. Григорию Паламе: «“Природа” не обозначает у него статическое понятие, а всегда рассматривается в том или ином своём бытийном состоянии. Её состояние до грехопадения предполагало жизнь в Боге, для которой она и была сотворена, хотя эта жизнь принадлежала не ей, но Богу; после падения, лишившись жизни в Боге, она оказалась предоставленной своим собственным силам, что было сущностным противоречием с её назначением и привело к смерти. Какое же из этих двух состояний “естественное” состояние человека? Для свт. Григория этот вопрос был абстрактной проблемой, решать которую ни учитель безмолвия, ни греческие Отцы Церкви не считали необходимым. Вот почему из-под пера св. Григория выходили терминологически противоречивые формулировки “бессмертия души” и её “смерти”»[45].
Так, в горизонте христианского Откровения реальность сущего ограничена (или, что то же, определена), в первую очередь, уже не естеством конкретной вещи в её физикалистической замкнутости, а творческой волей Бога, и в этом смысле оказывается «открытой» в самой своей о-граниченности (или о-пределённости), по образу этой о-граниченности.
Изъясняя слова Дионисия Ареопагита о том, что Бог «сверхсущественно пребывает запредельным и ко всему сущему, и к объединяющему все исхождения во-вне, и к неиссякающему излиянию Его неуменьшающихся преподаний»[46], прп. Максим Исповедник подчёркивает, что «возникшее творится, т. е. приходит в бытие, одновременно с желанием Творца, а не понемногу и постепенно»[47]. Иначе говоря, творческая воля Бога, в самом строгом и абсолютном смысле, никак не опосредована: даже в пространстве самого творческого изволения, изнутри него, она не опирается на что бы то ни было как на иное по отношению к ней, ни в чём не функционализируется. «Богоначальная сверхсущественность, – говорит Дионисий, – будучи бытием Благости, самим фактом своего бытия (…) является причиной всего сущего». Согласно же прп. Максиму Исповеднику, «этим опровергаются неразумные мнения осмелившихся утверждать, что Богу по природе присуще нечто творящее, как паукам ткущее: автор говорит, что одною благостью Бог всё привёл в бытие»[48].
Таким образом, мир не есть ни естественный рефлекс (или проекция) бытия Божия (как будто «Ему по природе присуще нечто творящее»), ни результат демиургической «постепенности», в процессе которой, в самой твари, инерция самодовления брала бы перевес над экзистенциалом тварности. Стало быть, именно тварность уже в самом событии сотворения определяет сущее, эсхатологически, изнутри его естества, раскрывая его к своему Творцу.
В так раскрывающейся перспективе бытия и изменение оказывается связанным прежде всего не с субстанциальной характеристикой сущего как такового (материя или дух), но с образом его приведения в бытие, с его тварностью. Ибо «всё осуществлённое творением в сродстве с изменением, – говорит свт. Григорий Нисский, – потому что и самая ипостась твари начата изменением»[49]. Тварное сущее не самобытно, как раз напротив, корни его бытийности не в нём самом, а в Божественном о нём изволении[50]. «Всё, – говорит Дионисий Ареопагит, – … представляет собой сущность благодаря Добру и благодаря Ему удостоилось свойства быть сущностью»[51]. Личность Творца, Своей сущностью неограниченная[52], свободно творит мир: «Из Него – все сущностные существования сущего…» Так что, согласно схолии прп. Максима Исповедника относительно этого выражения Дионисия, «сами по себе существования выше сущностей; говоря же здесь о сотворённом, он по праву к “сущностным” добавил «существования»[53].
В творении (и только в творении!) сущего образ его бытия (τροπος υπαρξεως) онтологически преимуществует над сутью бытия (το τι ην ειναι) и потому онтологическая плотность и добротность сущего не обязательно растворяется там, где речь идёт об изменении, ибо оно есть именно так или иначе конкретизируемый способ существования твари.
Мало того, несамобытность (онтологическое «ничтожество») твари есть другая сторона её способности к возрастанию, которая, в лице человека по-преимуществу, позволяет превосходить границы субстанциальной самотождественности, что, в свою очередь, и соответствует замыслу Бога о своём творении. Ведь согласно «Божией премудрости происходит некое смешение и срастворение чувственного с умственным, так что всё в равной мере бывает причастно прекрасного, и ни одно из существ не остаётся без удела в наилучшем естестве»[54].
Вот почему «изменчивость» приобретает, при всей своей онтологической неоднозначности (она – печать «ничтожества», но и «открытости» Творцу), чрезвычайно важное, если не сказать решающее сотериологическое значение: «Ибо не к одному только злу направлена изменяемость человека, – говорит свт. Григорий Нисский, – но изменяемость производит и прекраснейшее дело, – возрастание в добре, когда хорошо изменяющегося изменяемость к лучшему постоянно приближает к Божеству. Итак (…) кажущееся странным (говорю о изменчивости нашего естества) есть как бы некоторое крыло для воспарения к большему и большему[55], так что было бы даже вредом для нас, если бы наша природа не допускала изменяемости к лучшему. (…) Ибо истинное совершенство и состоит в том, чтобы никогда не останавливаться в приращении к лучшему и не ограничивать совершенства каким-либо пределом»[56].
Изменение, как образ вхождения в бытие и как способ существования, характеризует и эсхатологические судьбы творения. «Говорю вам тайну, – свидетельствует апостол Павел, – не все мы умрём, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему – облечься в бессмертие» (1 Кор 15:51–53).
«Моментальность» изменения, соотносимая, в данном случае, с отсутствием «постепенности» и в событии творения, точно также эсхатологизирует (не во временном только, но и в онтологическом измерении) естество твари, обнаруживает его в его первичной, конституирующе-значимой «открытости» Творцу, Им и в Нём определяемости. Отсюда предельная подвижность субстанциальных (потому что уже и не только субстанциальных: «Говорю вам тайну…») характеристик творения – от смертного к бессмертному, от тленного к нетленному. Субстациально-уравновешенная связь сущего не довлеет себе и «в годину всеобщего и чаемого нами свершения (веков), по слову прп. Максима Исповедника, благоугодно будет (Богу) расторгнуть сию связь ради высшего и более таинственного Домостроительства (…) Тогда и мир, подобно человеку, умрёт в своей явленности и снова во мгновение ока восстанет юным из одряхлевшего при чаемом (нами) воскресении. Тогда и человек, как часть с целым и как малое с великим, совоскреснет с миром, получив обратно силу непреходящего нетления. Тогда, по благолепию и славе, тело уподобится душе и чувственное-умопостигаемому, благодаря ясному и деятельному присутствию во всём и каждом соразмерно проявляющейся божественной силы, которая посредством себя будет блюсти нерасторжимые узы единства на веки вечные»[57].
Замечательно, что в этой исконной для твари, эсхатологически напряжённой невозможности определиться через себя самою, она в своей обращённости в Творцу оказывается Ему парадоксально и таинственно сообразной, а значит и, в известном смысле, также беспредельной. Свт. Григорий Нисский говорит, что «и естество, приведённое в бытие сотворением, всегда обращает взор к первой причине существ, и причастием сей вечно пре-избыточествующей причины соблюдается в добре, и некоторым образом непрестанно созидается, вследствие приращения благ изменяемое в нечто большее, так что и в нём не усматривается какого-либо предела, и возрастанию его в наилучшем не полагается никакой границы…»[58]
Однако «беспредельность», утратившая свою эсхатологически-ориентированную «открытость», обращённость к Творцу, и спроецированная внутрь творения в его субстанциальной данности, радикально превращает положение вещей. В этом случае, в случае физикалистической интерпретации «беспредельности» творения, оно неизбежно обожествляется. Спроецированная, по образу устроения ума, внутрь естества его тварная «открытость» приобретает (к примеру, уже в предренессансном сознании) характер «естественной бесконечности» и мыслится как «возможность», онтологически преобладающая над «действительностью», как «открытость» по сути уже не тварная, но как бы творческая[59]. Физикализация τροπος υπαρξεως человека и обожествление творения идут навстречу друг другу, причём параллельно с манихейско-монофизитски ориентированной переоценкой материально-тварного. Там же, где способ сопричастности творения Божественной причине мыслится физикалистически (равно, как если бы речь шла и о дуалистическом размежевании Бога и творения), уже не остаётся места надежде на «участие в наилучшем естестве» или уподобление «тела душе и чувственного умопостигаемому».
Классический вариант так, физикалистически, мыслимой сопричастности истинно сущему хорошо известен. Согласно Платону, например, человек касается «самого существа каждой вещи тем в своей душе, чему подобает касаться таких вещей, а подобает это родственному им началу»[60]. Так же и у Прокла «то, чему (нечто) причастно, даёт общность тому, что ему стало причастно, в том, чему это последнее стало причастно. Однако поистине необходимо, чтобы вызванное причиной было причастно причине как имеющее от неё свою сущность»[61].
Совсем напротив, для святоотеческого сознания «Тот, Кто по сущности не допускает участия в Себе сущим, изволяет иным способом сопричаствовать Ему могущим это сделать, но (Сам) совершенно не выходит из (Своей) сущностной Сокрытости, поскольку способ, которым Он изволяет сопричаствовать (Ему), всегда остаётся закрытым для всех. Следовательно, как Бог изволяет участвовать (в Себе) способом, о котором ведает Он (один), так Он и хотением (Своим) привёл в бытие сопричаствующих (тварей) в соответствии с логосом, постигаемым только Им, и посредством преизобилующей силы (Своей) Благости»[62].
Эта принципиальная непостижимость и вышеестественность способа сопричастия одного естества другому (начиная с осуществлённого в самом творении образа участия Творца в естестве Им сотворённом), является онтологически исходной и для нравственно-аскетического сознания, оно-то, собственно, и оказывается единственно-сообразной тайне сопричастия формой её переживания.
Если же именно любовь, которая, по слову апостола, «не ищет своего» (1 Кор 13:5), движет тем восхождением «от высшего к высшему», что не ведает предела и опознаёт «искомое по одной непостижимости того, что оно такое» (свт. Григорий Нисский), то разве не совпадает здесь тайна божественного эроса (или рачения) со свидетельством аскетического опыта, – неутолимая устремлённость к превосходнейшему с отказом от обладания даже субстанциально-своим? Ибо ведь даже «движение (нашей) мысли делается тогда (подлинно) нашим, когда направлено к полезному для нас…»[63] Правильно ориентированная духовность не знает размежевания между эросом (рачением) и аскезой[64], она, напротив, усматривается и осуществляет себя в единстве того и другого. В самом деле, самоограничение аскезы как отказ от «своего», от той инерции «прикипания» к тварному в его субстанциальной данности, которая силится «оформить» дурную бесконечность тварного «ничтожества», и устремленность к превосходнейшему встречаются и обнаруживают себя как одно в любви, в божественном эросе, уже не связанном узами космической «αναγκη».
И что особенно важно в связи с этим максимально ответственно проинтонировать, так это некую первичную (наши различения бесконечно предваряющую) целокупность (мы бы сказали, «кафоличность») того устроения твари, в котором она осуществляет (именно, ипостазирует) себя в согласии со своим Творцом. Разумеется, эта первичная целокупность искома; в мире, отчуждённом от своего Творца, она предваряюще-недосягаема; но и это возрастающее движение поиска направлено (эсхатологически, сверху вниз, от Творца к творению) реальностью и силою изначально дарованной творению (и сызнова осуществлённой в Церкви) причастности Бога к человеку, Творца к творению.
Только эта эсхатологически напряжённая о-граниченность (и о-пределённость) высшим, превосходнейшим и Божиим изволением сопричастность ему устанавливает (и вос-станавливает) естество твари в мере его соответствия самому себе. А «каждое естество исполняется веселия, приблизившись к тому, что ему свойственно»[65].
Такое приближение естества к ему именно свойственному для человека оказывается возможным, когда Бог привлекает душу его «к общению с Собою; тогда по преимуществу в лучшем в равной тому всегда мере ставит её выше, нежели сколько она причастна; потому что душа по причастии превосходнейшего становится непрестанно выше себя самой, и возрастая не останавливается в возрастании; добро, которого она причастна, однако пребывает на-равне с нею, и душа, всегда более и более причащающаяся, на-равне с тем находит оное непрестанно в преизбытке»[66].
Душа становится «непрестанно выше себя самой» по мере того как приобщается Богу, бесконечно превосходящему её Бытию. Таким образом, приобщение оказывается здесь непостижимой возможностью «пребывать наравне с тем», что несравненно выше нашего тварного естества. Стало быть, и «равенство», как признак реальности приобщения, никак не означает здесь его (приобщения) модальности.
Способ приобщения (или причастности) Творца творению остаётся, как уже было замечено, «закрытым» и непроницаемым для твари. Впрочем, ведь и сама тварь исполняется (в своём равенстве себе) по мере того, как «становится выше себя самой».
В этой связи субстанциальные характеристики не только Божественного, но и тварного бытия оказываются направленными и как бы закалёнными апофатически; они говорят о реальности различений и умолкают перед самой реальностью, ведение которой осуществляется по мере согласия (и совпадения) в разумной твари её онтологического и нравственно-аскетического измерения, т. е. по мере её согласия (и согласования) со своей тварностью.
Гносеологическое же, изымающее «ум» из этого согласия естества с его тварностью или в пространстве самого «ума» это согласие силящееся постигнуть, – гносеологическое покушение на бытие отсекается только волею к смиренномудрию, к врачующей ум аскезе само- (но не собой!) ограничения. Воля же самого смиренномудрия в том именно, чтобы «аще возможно есть, и самаго от себе погружати себе внутрь себе, и вселятися и входити в безмолвие, и оставити разумения своя первая со чувствы своими вся отнюдь и быти аки некоему несущу во твари, и не пришедшу во еже быти (выделено нами. – А. М.), и отнюдь ниже самой души своей сущу ведому. И елико есть таковый сокровен, и скрыт, и отлучен от мира, весь во Владыце своем бывает»[67].
Апофатическая выправленность – и направленность – познания связана, прежде всего, с тем, что самое это познание осуществляется (как и спасение, потому что как спасение) сверху вниз, от Творца к творению, от Бога к человеку, в том движении божественной Любви, которое полагает начало бытию твари в каждом из его моментов – как внутреннее пространство самого определения твари.
«Душа, – говорит прп. Максим Исповедник, – в молитвах имея Бога[68] как своего единственного и таинственного по благодати Отца, исступая из всего (…), соединяется с Единством сокровенности Его. И тем более душа будет внимать вещам божественным и познавать их, чем более она не желает принадлежать самой себе, не стремится быть познанной из самой себя, самой собой или кем-нибудь другим, кроме только всецелого Бога, Который благолепно воспринимает её всю (в Себя), весь боголепно присутствует во всей душе, бесстрастно проникает в неё и всецело обоживает её»[69].
Познание, согласное с устроением творения, ориентировано иерархически[70]; порядок уразумения реальности соотнесён здесь чину бытия: не только Божественное постигается в разуме Божием, но и логосы твари созерцаются «Христовым умом» (1 Кор 2:16)[71]. Поскольку же источник и основание этой иерархии сущего – в Сверхсущем и никак естественно не досягаемом Первоначале, то и образ соподчинения, связи и сопричастия Ему только Им Самим и может быть инициирован, установлен, но также и осуществлён. Тварь опознаёт, знает и осуществляет себя в Боге по мере своего сообразия Его присутствию в творении как безусловно, хотя и гносеологически недосягаемо, первичного бытия.
Но и сообразоваться присутствию Божию невозможно (на началах самого тварного естества) иначе как только в горизонте самого этого Присутствия, вышеестественно. Так, образ устроения тварного естества в соответствие с его нетварным божественным Началом есть и не может быть ничем иным, как только верою[72]. Вера, согласно апостолу Павлу (Рим 4:16–25), существенно соотнесена с характером Божественной икономии в творении и спасении мира. Она по своему онтологическому качеству строго коррелирует с творением из ничего («нарицающу не сущая яко сущая»), воскрешением мертвых и обетованием спасения всему человечеству («не точию сущему от закона»), а тем самым коррелирует с вышеестественностью («сего ради от веры да по благодати») образа Божественной икономии. Вера для разумного тварного естества есть исключительный способ стать «прямо Богу» (Рим 4:17), то есть соустроиться Ему, одновременно и в Его действенности, и в Его недосягаемости, в непостижимой первичности Его Присутствия, а потому и тем самым собраться и в своей собственной субстанциальной определённости.
«Возможно, это и осуществил (конечно, верою. – А. М.) великий Авраам, – говорит прп. Максим Исповедник, – и самого себя восстановив в логосе естества, и этот логос восстановив в самом себе, а поэтому возвращённый Богу и сам получивший обратно Бога, ибо можно сказать и так, и этак…»[73] Именно потому, что вера – никак не одна из субстанциально-конституируемых способностей человеческого естества, а скорее благодатный аналог того тварного «ничтожества», в котором – впору его субстанциальной «безвидности» – экзистенциальная (в тропосе бытия) открытость обожению, именно поэтому вера и способна собрать, осуществить естество во всей его субстанциальной окачествованности. Если же припомнить мысль прп. Максима Исповедника, то как раз не принадлежать себе или чему бы то ни было тварному, здесь – условие, если уже не знак всецелой принадлежности Богу, равно как и своей тварной осуществлённости верою. Впрочем, вера и есть осуществление (υποστασις (Евр 11:1)) ожидаемого совершения твари, которая сама «с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим 8:19), того изменения естества, когда «будет Бог всяческая во всех» (1 кор 15:28).
И только «верою разумеваем» (Евр 11:3) недосягаемо первичное нашего бытия, его тварность. Но тем самым и самую эту естественно присущую нам способность разуметь (понимать, высветлять смыслом, усматривать в полноте и непреложности Божия благословения быть) возводим в её совершенный, логосному основанию соответственный чин[74].
Неспроста и неслучайно – хотя и неоправданно! – опасливо отчуждается аполлинарианская христология (и ей созвучная аскеза) «умного» начала как протеически-податливо ускользающего в своей свободе и неустойчивости. Слишком, с неуловимой и редко обратимой спонтанностью прелагается здесь одно в другое – свобода в неустойчивость, а значит, и бесчиние или, что то же, – сочетание чинам демонским; «Еже разделити образы премененныя, в них же ходит сопротив вере, и како с чины бесовскими сродствует»[75].
Итак, всё, что было сказано об естестве, тварная «открытость» которого есть и его едва ли не творческая изменчивость, в способности «разумения» находит себя как таковое, как это именно. Но поэтому именно, разум беззащитно уязвим «сам по себе» – в этой именно, ни с чем другим несравнимой, невозможности «самому по себе» быть; он всегда на поводу, в никогда до конца и внятно неовнешняемой сопричастности иному.
Одним из мотивов строжайшей взыскательности Церкви к «умственным» (догматическим) формулам, подобно аскетической взыскательности к «умной молитве», и является как раз то, что «ум» никогда не есть «только ум», но всегда глубочайшим образом срастворён (со-чинен) тому или иному верою выверяемому устроению человека в бытии.
Свт. Игнатий (Брянчанинов) напоминает: «Одна мысль ложная может низвести во ад. Легче думают омраченные сыны мира сего о мыслях о Боге; по их мнению, мыслить о Боге так или иначе – не большая беда. Несчастные! они не знают, как важны мысли о Боге, как важна в них Истина и ей всегда сопутствующий и содействующий Дух. От взаимного их действия – оживление человека во спасение, которое состоит в причастии естества человеческого Божественному естеству. Напротив того, мыслям ложным всегда соприсутствует и содействует тёмный и лукавый дух обольщения. Отец лжи – диавол, так говорит Евангелие; ложь – диавольское свойство. Усвоивший себе мысли ложные усвоил себе свойства диавола, вступил в родство с отверженными ангелами, сделал для себя соединение с Богом несродным, неестественным. Чуждый Бога – чужд спасения и жизни духовной. Будем сохранять себя от мыслей ложных и истекающих от них сердечных ощущений[76].
Кромка сознания слишком обломчива («мысль мою Твоим смирением сохрани»), не собой содержима, чтобы удержать разумение, в модусе чистой рефлексии, направленным на себя; его естественное движение восходяще-нисходящее и, будучи расположенным к многочинию[77], себе по-настоящему не принадлежит и, скажем ещё раз, не должно (не способно) принадлежать.
Ибо «и самый (…) разум верою совершен бывает, и стяжевает силу взыти горе и ощутити он (оный) образ, вышший всякаго чувства, и увидети зарю ону, непостижную умом, и разум тварей. Разум же степень есть, имже восходит кто на высоту веры. И егда достигнет близ ея, не ктому паки требует его»[78]. Бесконечно далёк образ этой иерархически осуществляемой мистагогии от схоластически безысходного (безобразного) расщепления христианского гнозиса на «веру» и «разум», где «верую, чтобы понимать» или «понимаю, чтобы верить» по-своему, но одинаково отчуждены от непостижимой возможности – разумевать самою верою (Евр 11:3).
Именно это, философски и культурно-исторически старательно и самозабвенно пестунствуемое отчуждение от непостижимой возможности Богообщения (или – увы! – отчуждённое от самого опыта тайны его истолкование), в конце концов, потребовало инверсии (но только вербальной!) и в самом свидетельстве Церкви, обращённом к невербально, но реально инвертированному, «превратному» разуму мира сего.
Другими словами, не потому ли в исходе XVIII столетия прп. Паисий Величковский в переводе одного из духовно-утонченнейших творений прп. Исаака Сирина меняет слово «естество» на «вера», что самое понятие «естества» уже было вызывающе последовательно и необратимо выведено из континуума святоотеческого сознания, оторвано от сопричастности своему нетварному логосу и выдвинуто в новом сознании, а вместе и в бытии, в качестве самозаконной реальности, тварность которой была как бы вынесена «за скобки», чтобы уже никогда после не быть принятой в расчёт?
Нисколько и ничего не уступая в своей святоотеческой ориентации, прп. Паисий напоминает об аскетико-иерархически (а не рационально-схоластически)[79] обусловленной соподчиненности разума вере, сохраняя, конечно, при этом и значение (ещё самоочевидной для времени первых славянских переводов) соотнесённости «веры» и «естества», которое, как мы видели, одною только верою и устрояется в подлинное соответствие себе перед Богом (Рим 4:17).
«Природа, – пишет о. Иоанн Мейендорф, – перестаёт быть вполне “естественной”, если она отказывается от своего предназначения, то есть общения с Богом и постоянного возрастания в познании Непознаваемого»[80].


