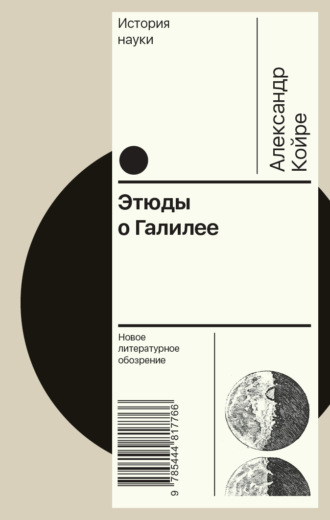
Александр Койре
Этюды о Галилее
4. Галилей
Обратимся теперь к Галилею.
В трактатах и сочинениях о движении, которые он составил в Пизе104и которые, как мы знаем, остались незавершенными, Галилей пытался последовательным и полным образом развивать динамику «запечатленной силы» [forse impresse] – импетуса, о которой мы довольно долго говорили ранее, время от времени он также предпринимал попытки достроить математическую или, вернее, «архимедову» модель физики, начало которой, как мы только что видели, было положено в работах Дж. Б. Бенедетти. Поэтому мы обнаруживаем у него уже знакомые нам, только уже более систематизированные, сжатые и более ясно изложенные традиционные аргументы его предшественников из Парижской школы.
В тексте, написанном в Пизе, Галилей показывает себя решительным и даже ярым противником Аристотеля105.
Аристотель, говорит он нам, ничего не смыслил в естествознании106, в частности в том, что касается перемещения, он почти всегда был далек от истины. В самом деле, он не мог доказать, что двигатель должен непременно быть соединен с движущимся телом, не утверждая при этом, что брошенные тела движимы прилегающим воздухом107.
И Галилей приводит другие примеры явлений, которые аристотелевская теория не может объяснить. Может ли она, в самом деле, объяснить, почему тяжелое тело, например кусок свинца, при броске полетит дальше, чем легкое тело такого же размера? Или что продолговатые тела, такие как копье, летят лучше, чем короткие, причем тяжелым концом вперед? Разве можно согласиться с тем, что стрела, пущенная против ветра, движется за счет реакции воздуха? Разве можно объяснить реакцией среды сохраняющееся движение колеса, волчка и отполированной, покрытой чехлом мраморной сферы108?
Кроме того, аристотелевская концепция в самой себе содержит противоречие: действительно, если бы перемещение воздуха могло вызывать другое перемещение, тогда это явление воспроизводилось бы в свою очередь, и движение, начавшееся однажды, продолжалось бы неопределенно длительное время, и, более того, оно бы ускорялось. Однако одним из фундаментальных принципов аристотелевской динамики является то, что всякое движение ограничено и конечно. Наконец, Галилей приводит формальный аргумент: приписывая воздуху роль двигателя, Аристотель лишь смещает вопрос. И что более важно, он противоречит сам себе, ведь он самим своим молчанием в этом вопросе подтверждает, что движущая способность запечатлена [impressa] в воздухе: откуда такая привилегия и почему, раз уж нельзя обойтись без движущей способности, просто не признать, что она присутствует в движущемся теле во всех рассматриваемых случаях109?
Рассмотрим, к примеру, случай с камнем, подброшенным в воздух: камень поднимается, воспринимая таким образом определенное качество или способность, которая заставляет его подниматься. И поскольку способность подниматься – это свойство легких тел, то камень воспринимает не что иное, как род легкости. Именно эта легкость (неестественная) объясняет восходящее движение тела: это запечатленная в нем способность [virtus impressa] – способность движения [virtus motiva].
Однако эта движущая способность, иными словами, легкость, сохраняется в камне, отделенном от источника движения, двигателя, так же как жар сохраняется в железе, когда его отнимают от огня. Эта способность (запечатленная при броске) постепенно ослабевает в брошенном предмете, когда он отделился от метателя, подобно тому как тепло ослабевает в железе, удаленном от огня. Таким образом, камень возвращается в состояние покоя, подобно тому как железо возвращается к естественной для него холодности; и подобно тому, как существует способность (естественная и специфичная) тел, связанная с теплом, существует такая способность тел – связанная с движением. Одна и та же сила сообщается сперва тому телу, которое проявляет большее сопротивление, то есть наиболее тяжелому, нежели тому, которое менее сопротивляется (как тепло передается железу быстрее, нежели воздуху, и потому в первом сохраняется дольше); значит, железу движение передается быстрее, нежели свинцу110.
Для нас совершенно ясно, что, верный заветам своих предшественников111, Галилей развивает физику «запечатленной силы» [force impressa]. Эта сила, проявляющаяся в движении предметов, мыслится им исходя из прежней модели сил-качеств аристотелевской физики – качеств теплоты и холодности. Эти качества являются субстанциальными, по крайней мере в том смысле, что они могут отделяться от своего источника и могут передаваться другим телам. Они являются «естественными», поскольку присутствуют естественным образом и, стало быть, устойчивы; или же, напротив, это неестественные качества – они запечатлены [imprimeés] насильственным образом и, стало быть, преходящи. Таким образом, чтобы дать нам более ясное представление об этом понятии, Галилей предлагает нам очень удачный пример112, в котором говорится про колокол, который толкнули, тем самым заставив его качаться, благодаря чему он воспринял «качество звучания» и стал звенеть. Иными словами, колокол издает звон благодаря этой запечатленной [imprimeé] в нем способности, что объясняет, почему под действием единичного толчка колокол может издавать звон определенной длины. «Качество звучания», запечатленное [imprimeé] или переданное колоколу при толчке, не является естественным для колокола. Не более естественным является качество движения, переданное камню при броске. Но однажды запечатленное [imprimeé] или переданное, оно продолжает там пребывать; это качество принадлежит колоколу, камню, а не молотку или руке. Следовательно, это качество отныне обладает независимым существованием и не нуждается более в том, чтобы быть непрерывно связанным со своим источником: движение тела является действием силы (качество подвижности), которая в нем заключена. Нет вовсе никакой необходимости во внешнем двигателе для того, чтобы поддерживать это движение.
Из этой аналогии, очевидно, выводятся далекоидущие следствия, возможно, чересчур радикальные. По правде сказать, они куда более радикальны, чем хотелось бы думать некоторым историкам науки. Способность или качество движения не более естественно для камня (для тела естественно находиться в покое), чем издавание звона – для колокола. Способность движения, как и «качество звучания», есть нечто, что «запечатляется» [imprimé] в предмете. Это еще и нечто, сущность чего заключается в действии113. «Качество звучания» является причиной звона, подобно тому как качество подвижности является причиной движения. И то и другое иссякает, производя соответствующий эффект – звон или движение. Потому колокол не звонит бесконечно, но в конечном итоге прекращает звонить и затихает. По той же причине и брошенный камень не летит бесконечно, но его движущая сила иссякает, и он останавливается, возвращаясь к покою114.
Галилей отстаивает очень твердую позицию в этом пункте: понятие качества или движущей силы, которую двигатель тем или иным образом запечатляет [imprimeé] в теле, позволяет дать исчерпывающее объяснение феномену броска. Нет никакой надобности обременять себя несуразными допущениями о реакции среды, придуманными Аристотелем.
Но разве понятие движущей силы, запечатленной [imprimeé] в теле, не подразумевает бесконечное продолжение движения? Иными словами, разве оно не позволяет сформулировать принцип инерции? Как известно, такого мнения придерживался не один известный историк науки. Во всяком случае, мнение Галилея не было таковым115. В отличие от многих своих предшественников (Кардано, Пикколомини, Скалигерa), которые утверждали, что при определенных условиях (а именно когда движение происходит на горизонтальной поверхности) сообщенный импетус неиссякаем116, Галилей решительно настаивает на принципиально преходящем характере импетуса. Вечное движение остается невозможным и абсурдным просто потому, что движение – это результат действия движущей силы, которая иссякает по мере того, как ею производится движение117. Поэтому движение происходит, постоянно замедляясь, и невозможно было бы обозначить две точки, в которых скорость тела оказалась одинаковой. Галилей, который читал работы Бенедетти и знал, что движение может бесконечно замедляться118, считает, что этого более чем достаточно, чтобы доказать, что движение всегда с необходимостью должно прекращаться. Эта ошибка, по-видимому, объясняется тем, что Галилей невольно замещает расстояние временем и делает вывод об ограниченной длительности движения исходя из представления об ограниченности пройденного расстояния. Как бы то ни было, урок, который нам преподал Галилей, не становится менее ценным, напротив, он чрезвычайно ценен для истории науки: физика импетуса несовместима с принципом инерции.
Тот факт, что насильственное движение постепенно замедляется и что импетус постепенно иссякает, по-видимому, признавали все (или почти все). Во всяком случае, все признавали, что в обычном случае все происходит именно так. Впрочем, это, как мы видели ранее, нисколько не мешало тому, чтобы все твердо верили в то, что всякое движение (в частности, движение снаряда) начинается с фазы ускорения. Даже артиллеристы эпохи Возрождения были совершенно уверены, что снаряд, выпущенный из пушки, начинает двигаться, увеличивая свою скорость, и достигает максимальной скорости на определенном расстоянии от жерла119.
Мы не будем останавливаться на более или менее изощренных объяснениях этого воображаемого феномена; впрочем, они могли бы служить дополнительным доказательством спекулятивного характера понятия импетус. В самом деле, кажется, что, как только мы смогли помыслить более или менее ясным образом понятие силы, как только нам удалось понять движение как эффект силы (естественной или запечатленной [impresse]), для нас оказывается невозможным признать, что движение может ускоряться самопроизвольным образом. Совсем наоборот, мы вынуждены признать, так же как Галилей, что движение, по крайней мере насильственное движение, которое производится благодаря «запечатленной силе» [force impresse], само по себе может лишь замедляться.
Мы приходим к любопытному заключению, что среди всех сторонников физики импетуса Галилей оказался единственным (наряду с Гиппархом, по-видимому, и Каэтаном Тиенским120), кто сумел разобраться в этом вопросе, единственным, кто осмелился отрицать в качестве невозможного тот феномен, который так силились объяснить его предшественники и современники.
Таким образом, Галилею пришлось отрицать возможность еще одного явления – на этот раз без всяких колебаний – а именно ускорение свободного падения. Действительно, свободное падение тела происходит благодаря постоянной силе – его тяжести; падение, стало быть, не может иметь иной скорости, кроме постоянной.
Галилей говорит об этом очень четко: скорость или медленность движения падения зависит от одной и той же причины, а именно от большей или меньшей тяжести падающего тела121. Скорость не является чем-то, что, так сказать, внешним образом определяет движение, как-то к нему прибавляясь, как приняло было считать. Аристотель указывал одну причину для движения, другую – для его скорости. Скорость не является результатом сопротивления среды: она есть нечто неотъемлемое и присущее самому движению. Скорость нельзя отделить от движения: в самом деле, то, что производит движение, с необходимостью производит и скорость; и медленность есть не что иное, как меньшая скорость122. Таким образом, большему весу соответствует бóльшая скорость; меньшему весу – меньшая скорость; обратное верно для легкости123. Следовательно, скорость падения тела а) строго пропорциональна его тяжести и б) для каждого тела имеет постоянное значение.
Таковы неизбежные теоретические следствия теории импетуса, четко изложенные Галилеем. Как нам кажется, этого должно быть достаточно, чтобы убедить нас в том, что эта теория приводила в тупик124, а также дать ответ на вопрос, над которым бился Дюэм, – почему Николай Орем не применял в описании движения свободного падения тел те теоретические соображения (т. е. математические), которые он развивал в анализе «протяженности форм». Ответ, на наш взгляд, очень прост: Орем понимал себя лучше, чем изучающие его историки.
***
Только что мы говорили о том, что Галилей отрицал, что тело в свободном падении ускоряется. Впрочем, он не отрицал этого полностью. Как и все прочие, он вынужден был признавать, что падающий камень движется все быстрее и быстрее. Это ускорение тем не менее, говорит он нам, имеет место лишь в начале движения свободного падения вплоть до того момента, когда падающее тело достигает соответствующей скорости, которая, как известно, строго пропорциональна тяжести этого тела. С этого момента скорость, напротив, остается постоянной, и, добавляет Галилей, если бы мы могли поставить эксперимент, т. е. если бы у нас в распоряжении была достаточно высокая башня, мы бы увидели (сбрасывая тяжести с высоты этой башни), как ускоряющееся движение превращается в равномерное125.
Все-таки почему ускорение присутствует в начале движения? И, с другой стороны, какова предельная скорость падающего тела? Ответ на второй вопрос, как мы уже увидели, очень прост: эта скорость зависит от тяжести. Речь, однако, не идет об абсолютной тяжести тел, а о тяжести определенного рода. Кусок свинца будет падать быстрее, чем кусок дерева. Но два куска свинца будут падать с одинаковой скоростью126.
Кроме того, следуя опять же примеру Бенедетти, Галилей вводит в свою теорию новый элемент, который, если понимать всю его важность, в конечном итоге приведет к ее краху: фактически речь идет не о какой-то определенной абсолютной тяжести тел, а об их [определенной] относительной тяжести127.
Вскоре мы вернемся к этому важному дополнению классической теории. Обратимся ненадолго к проблеме ускорения.
Согласно теории импетуса (в том виде, в каком ее развивал Галилей) тела должны были бы падать с постоянной скоростью, пропорциональной их относительной тяжести128. «Должны были бы…» Но на самом деле они падают с возрастающей скоростью, и эта скорость никоим образом не пропорциональна тяжести тела – даже относительной. Напротив, именно легкие тела в начале движения падают с наибольшей скоростью, и лишь какое-то время спустя тяжелые тела настигают их и обгоняют. В этом, считает Галилей, можно легко убедиться с помощью опыта129.
Это расхождение между теорией и практикой объясняется тем фактом, что теория в некотором смысле формируется абстрактно. Она применяется к идеальным ситуациям, в которых тело подчиняется только действию тяжести, – ситуациям, которые мы не встречаем в действительности. В действительности тяжесть никогда не действует отдельно, но всегда – в сочетании с легкостью. Именно модифицирующее действие легкости нам следует теперь изучить.
Возьмем, к примеру, случай, когда тело вертикально подбрасывают в воздух. Если оно поднимается, значит, мы запечатлели [imprimé] в нем легкость praeter naturam130, которая, собственно, и поднимает его в воздух131. Но помимо этой легкости praeter naturam, которую мы в нем запечатлели [imprimeé], тело продолжает сохранять свою естественную тяжесть, которая тянет его вниз. Легкость praeter naturam, стало быть, должна прежде всего компенсировать сопротивление или естественное действие тяжести. Как правило, тело будет подниматься, только если запечатленная [imprimeé] в нем легкость превосходит его тяжесть; к тому же оно будет подниматься лишь в той мере, в какой легкость превосходит тяжесть. По большому счету восходящее движение происходит лишь за счет действия этого избытка, этой разницы между легкостью praeter naturam и естественной тяжестью.
Однако производя это восходящее движение, легкость praeter naturam (как и всякая запечатленная сила [force impresse]) иссякает вследствие и в течение своего собственного действия. В какой-то момент «избыток» будет целиком истрачен. Тело в таком случае прекратит подниматься и начнет опускаться благодаря своей собственной естественной тяжести132.
Тем не менее (и это существенный пункт!) не вся легкость praetem naturam оказывается исчерпанной в этот момент, но только «избыточная». Момент, в который начинается спуск, в действительности является моментом, когда легкость praeter naturam и естественная тяжесть уравновешиваются. Падающее тело начинает движение не только лишь за счет тяжести, но также за счет легкости, которая была запечатлена [imprimeé] в нем ранее, или, точнее, легкости, которая оставалась. Итак, остается количество легкости, которым нельзя пренебречь (которое равно тяжести), и если это количество более не способно заставить данное тело подниматься, его достаточно для того, чтобы задержать его движение вниз. В самом деле, сила, которая несет тело вниз, не составляет всю его тяжесть – но только лишь разницу между тяжестью и запечатленной [impresse] легкостью. И именно в той мере, в какой возрастает эта разница (в результате уменьшения сообщенной легкости, иссякающей в ходе и за счет ее замедляющего действия), возрастает также скорость падения – вплоть до того момента, когда легкость оказывается полностью истрачена, и тогда тело под воздействием одной лишь тяжести движется с равномерной скоростью133.
Совершенно ясно, что возрастающая скорость свободного падения есть, по сути, не что иное, как постепенно уменьшающееся замедление.
Однако, скажете вы, это решение годится лишь для тел, которым была запечатлена [imprimeé] «легкость praeter naturam», т. е. лишь для тел, подброшенных вверх. Отнюдь, отвечает Галилей, оно применимо ко всем телам. Действительно, предположим, что в тот самый момент, когда подкинутое вверх тело прекращает подниматься и начинает опускаться, оно приостанавливается в своем движении: разве не очевидно, что оно сохраняло бы тогда, так сказать, складированной всю легкость praetem naturam, которой данное тело обладало бы в этот момент? Мы можем, таким образом, уподобить тело, находящееся на вершине башни, телу, подброшенному на ту же высоту134. Кроме того, разве не подвергается тело, находящееся на вершине башни, давлению со стороны своей опоры, которое направлено вверх (и которое препятствует тому, чтобы тело опускалось), – давлению, в точности равному тяжести тела?135Именно это давление сообщает ему ту самую противоестественную легкость, которая замедляет движение его падения. Можно считать, что все тела, находящиеся на поверхности Земли, будучи при этом удалены от ее центра, оказываются в положении, аналогичном тому, в котором находятся тела, расположенные на вершине башни136.
Ранее мы выяснили, что тела не в равной степени способны получать и сохранять импетус, качество движения и легкость praeter naturam. В частности, легкие тела менее восприимчивы к этим качествам и хуже их сохраняют. Именно в этом и заключается причина, по которой в начале движения они падают быстрее, чем тяжелые и плотные тела, которые, будучи насыщенными легкостью, лишь с трудом ее отдают137.
Теория, которую мы намерены изложить (и которой Галилей, во всей видимости, очень гордился), была, по правде сказать, куда менее оригинальна, чем он думал, поскольку она намечалась уже у Гиппарха138; она также менее элегантна, чем он считал, поскольку она ведет к очевидным противоречиям. Однако она хорошо раскрывает для нас сущность теории импетуса, и именно поэтому она кажется нам интересной и ценной. Потому мы можем обойтись без того, чтобы излагать здесь детали этой теории в том виде, в каком ее развивает Галилей, и обратиться теперь к другому аспекту его мысли, который мы уже имели возможность затронуть и который связан с идеями Архимеда.
***
Ранее мы уже упоминали, что Галилей, говоря о легкости (будь то естественная или противоестественная [supra naturam]), определяет ее как причину движения вверх и что, с другой стороны, скорость падения тел, как он считает, обусловлена139 не их абсолютной тяжестью, а тяжестью специфической и относительной. Важные уточнения (которые высказывал еще Бенедетти), проясняющие друг друга и в конце концов позволившие Галилею разом преодолеть и аристотелизм, и теорию импетуса, заменив их (точнее, предпринимая попытку их заменить) физикой количественных величин, модель которой была представлена Архимедом. Легкость – это то, что поднимает тело вверх140. На первый взгляд кажется, это не что иное, как классическое определение легкости как причины, по которой тела движутся вверх. В действительности все совсем наоборот. Легкость и тяжесть больше не считаются причинами, производящими определенные эффекты, напротив, они определяются исходя из производимых ими эффектов. Легкость – это то, что поднимает тело вверх; тяжесть – это то, что опускает тело вниз. Но «тяжелое тело», помещенное на чашу весов, поднимается тогда, когда другая чаша опускается. Но кусок дерева, который падает в воздухе, поднимается, когда его помещают на дно емкости с водой. Вопреки мнению Аристотеля и в соответствии с доктриной «древних», «тяжелое» и «легкое» являются не абсолютными качествами141, а относительными, или, вернее, простыми отношениями. Утверждение, что тело является тяжелым или легким, означает, что оно поднимается или опускается в зависимости от обстоятельств и от среды, в которую его поместили. Если оно тяжелее, чем среда, то оно опускается, если оно менее тяжелое, оно поднимается (как, например, кусок дерева, находящийся в воздушной и в водной среде). Сила (и, как следствие, скорость), с которой оно опускается или поднимается, на самом деле измеряется разницей между его собственной тяжестью (специфической) и тяжестью объема вытесняемой им среды142. Из этого следует, что все тела обладают абсолютной тяжестью, которая определяется количеством материи, которую они содержат во всем своем объеме; тем самым Галилей дополняет доктрину «древних», согласно которой все тела являются тяжелыми и не существует, собственно, легких тел. Аристотель был неправ и на этот счет143.
Рассуждение Галилея (которое, впрочем, лишь воспроизводит идеи Бенедетти), очевидно, представляет собой некоторое преобразование архимедовского рассуждения144. Однако это истолкование гидростатики отягощается крайне серьезными следствиями, в частности оно подразумевает замещение оппозиций качеств количественным измерением.
Этой альтернативе, к которой до Галилея стремился Бенедетти и которая использовалась в доктринах «древних» мыслителей, Галилей придает огромную важность. Он также настаивал на следующем. Легкость не является качеством (тяжесть есть не более чем конкретный вес): она представляет собой некий результат145. Движение вверх, таким образом, не является естественным движением146. Тела, движущиеся вверх, никогда не совершают этого произвольным образом, сами по себе: если они движутся вверх, то это происходит за счет внешней силы, поскольку их выталкивает какой-то другой предмет, более тяжелый, чем они сами. Единственное естественное движение, которое признает Галилей, – это движение тел, имеющих вес, это движение вниз, т. е. к центру мира. Это также единственное движение, которое обладает естественной целью, отсутствующей у движения вверх.
***
Различие, проведенное между абсолютной и относительной тяжестью (та тяжесть, которую мы обычно измеряем с помощью весов, всегда относительна), неоднократно повторяющееся утверждение о том, что скорость падения тела зависит от его относительной тяжести в данной среде (а не от его абсолютной тяжести), – все это неизбежно подводит нас к заключению (которое по схожим причинам принимал уже Бенедетти), что именно в пустоте и только в пустоте тела проявляют свою абсолютную тяжесть147 и падают со своей собственной скоростью, которая зависит от абсолютной тяжести этих тел148.
Это заключение коренным образом противопоставляется наиболее фундаментальным догмам аристотелевской физики149; приняв его однажды, мы можем связать его с понятием движения, эффектом движущей силы, запечатленной [imprimeé] в теле или же заключенной в нем. Действительно, мы уже говорили, что в этой концепции движение более не является тем, чем оно было для Аристотеля, – процессом, перемещением из одного места в другое, из одного состояния в другое. Движение пока еще само по себе не является «состоянием» (до этого еще далеко): именно в этом состоит причина, почему еще не возникло представление о том, что движение может сохраняться само по себе. Движение, как мы выяснили, – это результат действия силы. Но если эта сила целиком содержится или заключается в предмете, движение этого предмета, в принципе, не связано ни с чем иным, помимо самого предмета150. В рамках этой концепции вполне можно себе представить находящееся в движении тело, изолированное от всего остального мира. Мы также можем поместить его в пустоте. Если скорость тела зависит от силы, которая им движет, отсутствие сопротивления никоим образом не подразумевает возможность бесконечной скорости. И если тело, приведенное в движение насильственным образом, всегда ведет себя aliter et aliter151как относительно самого себя (поскольку его скорость будет в каждый момент различной), так и относительно центра мира (поскольку оно постоянно будет менять свое положение), то тело, находящееся в естественном движении, безусловно, будет вести себя aliter et aliter по отношению к центру мира, но по отношению к самому себе (коль скоро его скорость в пустоте постоянна) оно, напротив, будет оставаться idem et idem152.
Мы видим, что движение высвобождается, Космос распадается, пространство геометризуется. Мы находимся на пути, который ведет к принципу инерции. Но мы еще туда не дошли. На самом деле мы еще очень далеко отстоим оттуда. Настолько далеко, что, чтобы туда дойти, мы должны будем оставить позади и понятие движения-эффекта, и разделение движений на «естественные» и «насильственные»153, и понятие – и даже сам термин – «место». Этот путь очень долгий и сложный, и, как известно, сам Галилей не смог его пройти до конца.
Однако это совсем другая история, к которой мы пока не приступали154. В тот период, который мы рассматривали до сих пор, Галилей еще только ступает на этот путь. Для него пока еще существует «естественное место», хоть и одно-единственное – это центр мира; для него еще существует естественное движение, также единственное – то, которое направлено в центр мира155. Для него существует еще даже некий остаточный образ упорядоченного космоса: тяжелые тела располагаются в центре мира или поблизости от него; более легкие тела – на концентрических пластах вокруг первых. Это весьма любопытная концепция, которая хорошо показывает трудность, которая сподвигла Галилея освободиться от традиционного обрамления картины мира; концентрический порядок элементов сохраняется, но он объясняется исходя из геометрических оснований: коль скоро наиболее тяжелые тела являются наиболее плотными, они естественным образом располагаются там, где меньше всего места для материи, т. е. в центре мировой сферы156, которая также считается реальной.
И все же эта мировая сфера уже становится расплывчатой и неопределенной! Действительно, в своей критике аристотелевского понятия естественного движения, даже там, где Галилей признает естественный характер движения вниз, deorsum157, он протестует против естественного характера движения, направленного вверх, sursum158 – не только из тех соображений, что раз все тела являются тяжелыми, то такое движение всегда будет насильственным, но также и потому, что он превратно истолковывает термин «естественный». Нельзя бесконечно опускаться вниз. Однако можно, напротив, всегда подняться еще выше159.
Этот любопытный текст хорошо показывает нам, как (по всей видимости, благодаря влиянию Коперника160) в мышлении Галилея происходит постепенное изменение. Центр мира все еще имеет место. Но сфера, ограничивающая космос, расширяется, становится неопределенной, она теряет, так сказать, свои очертания. Было бы достаточно объявить ее бесконечной161, чтобы из пространства, которое отныне стало гомогенным, исчез всякий след античного Космоса, исчезли все «места» и все привилегированные направления. Было бы достаточно – хотя это и потребовало бы неимоверного усилия мысли. Галилей не пересекает границу. Лишь Джордано Бруно, который не был ни астрономом, ни физиком, смог совершить этот решительный шаг162.
***
Вернемся теперь немного назад. Откуда берет начало эта странная механистическая физика – все движения тел, частенько повторяет Галилей, можно свести к принципу равновесия163 – и гидродинамика, которую мы видели у Бенедетти и которую мы встретим у Галилея? Как было сказано уже не раз, эта идея возникает непосредственно из наследия Архимеда, чье имя Галилей никогда не упоминает без того, чтобы дополнить его самыми хвалебными эпитетами, и под знамя которого он намерен встать164, несомненно имея на то полное право.
Кроме того, Галилей был не единственным, кого безмерно восхищал Архимед. Со времен издания трудов Архимеда в латинском переводе Никколо Тартальей (который, по правде сказать, не многое смог из него извлечь) стала распространяться сперва слава Архимеда, а затем и его влияние. Его влияние было настолько велико, что Кардано, который с самым серьезным видом развлекал себя тем, что располагал великих людей в порядке их превосходства, присудил первое место (ставя его впереди самого Аристотеля!) Архимеду, единолично занимающему эту ступень165. Правда, Скалигер тут же ему возразил: как можно ставить этого ремесленника выше Евклида, выше Аристотеля, выше Дунса Скотта и Оккама! Какой вздор! И все же точка зрения Кардано очень показательна. Она указывает на стремительное возвышение Архимеда. Что касается его влияния, весьма заметно, что оба самых видных механика того времени, Гвидобальдо дель Монте и Джованни Баттиста Бенедетти, наиболее яркими своими идеями были обязаны Архимеду. В отношении Галилея же можно сказать, что в каком-то смысле его взрастила школа Архимеда.
Действительно, именно с Bilancetta166, исследования, посвященного вопросам гидростатического равновесия, юный Галилей начал свою научную карьеру; снисканием места на кафедре математики в Пизанском университете Галилей обязан не чему иному, как работе о центре тяжести твердых тел, подлинно архимедовской по вдохновению и методу; и именно благодаря тому, что он вполне сознательно и решительно причислял себя к школе Архимеда, перенимая интеллектуальную традицию, которую тот представлял, защищая «древних»167против Аристотеля, Галилею удалось преодолеть физику запечатленных сил [force impresse], возвысившись на уровень математической физики, которая представляет собой не что иное, как архимедову теорию движения.


