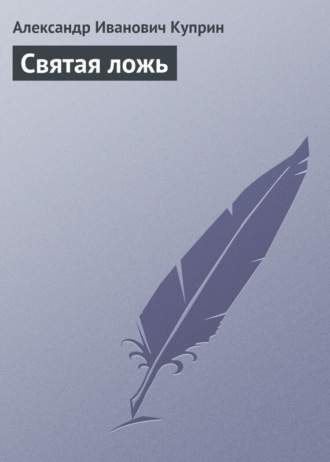
Александр Куприн
Святая ложь
Чем существует Семенюта, – он и сам не скажет толком. Он учит грамоте старших ребятишек сапожника, Кольку и Верку, за что получает по утрам чай вприкуску, с черным хлебом. Он пишет прошения в ресторанах и пивных, а также по утрам в почтамте адресует конверты и составляет письма для безграмотных, дает уроки в купеческой семье, где-то на краю города, за три рубля в месяц. Изредка наклевывается переписка. Главное же его занятие – это бегать по городу в поисках за местом. Однако внешность его никому не внушает доверия. Он не брит, не стрижен, волосы торчат у него на голове, точно взъерошенное сено, бледное лицо опухло нездоровой подвальной одутловатостью, сапоги просят каши. Он еще не пьяница, но начинает попивать.
Но есть четыре дня в году, когда он старается встряхнуться и сбросить с себя запущенный вид. Это на Новый год, на Пасху, на Троицу и на тринадцатое августа.
Накануне этих дней он путем многих усилий и унижений достает пятнадцать копеек, – пять копеек на баню, пять на цирюльника, практикующего в таком же подвале, без вывески, и пять копеек на плитку шоколада или на апельсин. Потом он отправляется к одному из двух прежних товарищей, которых хотя и стесняют его визиты, но которые все-таки принимают его с острой и брезгливой жалостью в сердце. Их фамилии: одного – Пшонкин, другого – Масса. Боясь надоесть, Семенюта чередует свои визиты.
Он пьет предложенный ему стакан чаю, кряхтит, вздыхает и печально, по-старчески покачивает головой.
– Что? Плохо, брат Семенюта? – спрашивает Масса.
– На Бога жаловаться грех, а плохо, плохо, Николай Степанович.
– А ты не делал бы, чего не полагается.
– Николай Степанович… видит Бог… не я… как перед истинным, – не я.
– Ну, ну, будет, будет, не плачь. Я ведь в шутку. Я тебе верю. С кем не бывает несчастья? А тебе, Семенюта, не нужно ли денег? Четвертачок я могу.
– Нет, нет, Николай Степанович, денег мне не надо, да и не возьму я их, а вот, если уж вы так великодушны, одолжите пиджачок на два часика. Какой позатрепаннее. Не откажите, роднуша, не откажите, голуба. Вы не беспокойтесь, я вчера в баньке был. Чистый.
– Чудак ты, Семенюта. Для чего тебе костюм? Вот уже третий год подряд ты у меня берешь напрокат пиджаки. Зачем тебе?
– Дело такое, Николай Степанович. Тетка у меня… старушка. Вдруг умрет, а я единственный наследник. Надо же показаться, поздравить. Деньги не Бог весть какие, но все-таки пятьсот рублей… Это не Макара в спину целовать.
– Ну, ну, бери, бери, Бог с тобой.
И вот, начистив до зеркального блеска сапоги, замазав в них дыры чернилами, тщательно обрезав снизу брюк бахрому, надев бумажный воротничок с манишкой и красный галстук, которые обыкновенно хранятся у него целый год завернутые в газетную бумагу, Семенюта тянется через весь город во вдовий дом с визитом к матери. В теплой, по-казенному величественной передней красуется, как монумент, в своей красной с черными орлами ливрее толстый седой швейцар Никита, который знал Семенюту еще с пятилетнего возраста. Но швейцар смотрит на Семенюту свысока и даже не отвечает на его приветствие.
– Здравствуй, Никитушка. Ну, как здоровье?
Гордый Никита молчит, точно окаменев.
– Как здоровье мамаши? – спрашивает робко обескураженный Семенюта, вешая пальто на вешалку.
Швейцар заявляет:
– А что ей сделается. Старуха крепкая. Поскрипи-ит.
Семенюта обыкновенно норовит попасть к вечеру, когда не так заметны недостатки его костюма.
Неслышным шагом проходит он сквозь ряды огромных сводчатых палат, стены которых выкрашены спокойной зеленой краской, мимо белоснежных постелей со взбитыми перинами и горами подушек, мимо старушек, которые с любопытством провожают его взглядом поверх очков. Знакомые с младенчества запахи, – запах травы пачули, мятного куренья, воска и мастики от паркета и еще какой-то странный, не определенный, цвелый запах чистой, опрятной старости, запах земли – все эти запахи бросаются в голову Семенюте и сжимают его сердце тонкой и острой жалостью.
Вот, наконец, палата, где живет его мать. Шесть высоченных постелей обращены головами к стенам, ногами внутрь, и около каждой кровати – казенный шкафчик, украшенный старыми портретами в рамках, оклеенных ракушками. В центре комнаты с потолка низко спущена на блоке огромная лампа, освещающая стол, за которым три старушки играют в нескончаемый преферанс, а две другие тут же вяжут какое-то вязанье и изредка вмешиваются со страстью в разбор сделанной игры. О, как все это болезненно знакомо Семенюте!







