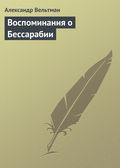Александр Вельтман
Радой
IV
Мемнон уехал, и я отправился, оживленный несколько обнадеживаниями друга и уверенностью, что я любим. Мемнон обещал уведомлять меня об Елене.
Не описываю моих путевых впечатлений: мои впечатления были нераздельны с Еленой. В Дрезденской галерее, смотря на Роксану Рафаэля, я сравнивал ее с красотою Елены и видел все недостатки дочери Ирода.
Но чтобы вполне блаженствовать в мечтаниях любви, надобно ехать по Рейну, надобно видеть истоки его. В таинственных недрах зарождаются они, как взаимные чувства юноши и девы, торопятся, ропщут на все препятствия, пробиваются сквозь них и падают в объятия друг друга, чтобы течь вместе, неразлучно посреди роскошных и диких берегов жизни.
Смотря на отдаленные вершины Альпов, вспомнил я Горную дорогу нашего златоуста поэта:
Четыре потока оттуда шумят —
Не зрели их выхода очи.
Стремятся они на восток, на закат,
Стремятся к полудню, к полночи;
Рождаются вместе, родясь, расстаются,
Бегут без возврата и ввек не сольются.
– И ввек не сольются! – долго повторял я. Неприступные скалы, окруженные садами и увенчанные развалинами древних рыцарских замков, как лики Дианы Ефесской, отвлекали душу мою от одной печальной мысли к другой. Теперь и прежде! Теперь тело развязно, свободно, а дух в оковах; прежде – тело было оковано в латы, а дух был свободен; легко дышалось на неприступных верхах гор и скал, над волнами, над пропастями, посреди лесов и виноградников, за гранитными бойницами, за подъемными мостами, под сводами великолепных добровольных темниц, посреди таинственности и чудес предрассудка, неразлучно с мечом, вином, любовью и неутомимою жаждою к славе. Минстрель пел сирвентес-римот:
Кто мне внушит благозвучную песнь,
Кто воскресит, оживит мою память
И свиток прошедшего в ней разовьет?
Кто расцветит мои мрачные мысли
И дивные звуки из струн воззовет,
Как голос от сна восстающей природы?
Ах! есть на земле, есть одно существо!
Его светлый взор, как небесное солнце,
Туманы и мрак с отдаленья сорвет
И свиток времен предо мной разовьет!
На берегу быстрого Неккара, впадающего в Рейн, посреди садов, мне слышалась эта песнь минстреля.[2] Я смотрел на заросшую дорогу, которая извивалась к величественным стенам замка… и забывался…
Вот… рыцари стекаются со всех сторон… знамена их плещут в воздухе; оруженосцы отягчены щитами, раскрашенными девизами чести, любви и славы; на оружие сыплются лучи солнца, дробятся радужными цветами… Кривой рог зазвучал… На вестовой башне с развевающимся флагом в облаках приветливо отвечают гостям теми же звуками; цепи подъемного моста загремели, кольцы железных ворот брякнули, скрипнули засовы и вереи… Герольды повещают приезжих… Гордые кони стучат тяжкими копытами по дубовому помосту… Пажи сбегают с крыльца встречать гостей…
На пространном дворе устроены павильоны вокруг поприща; драгоценные восточные ковры свесились через перилы… Судейская ложа украшена оружием, гербами, девизами, и знамена плещут над нею…
Судьи-джюджедуры заняли места. Серебряные власы их рассыпаются по пурпурным мантиям юношескими кудрями… Речи старцев звучны, как кованое оружие во время боя, важны, как голос вопрошаемого оракула…
И вот… она… божество, венчающее победу… появилась, как солнце посреди алмазных, изумрудных, яхонтовых лучей… Трубы грянули, герольды засуетились, рядят чин всему, оглашают законы поединков: «Любовь красоте, слава мужеству, хвала победителям! Настал час храбрых; оружие их омоется потом и кровью!»
Герольд умолк, подал знак; раздался хор минстрелей, сопровождаемый цитрами, бандурами и кастаньетами югларов:
Рыцари! вскиньте взоры на ограду,
Где восседает джюджедуров ряд,
Где дамы сердца мужеству в награду
Бантами чести грудь приосенят!
В ком изнеможет в бою дух врожденный,
Сердце остынет, сила изменит,
Взгляд животворный девы несравненной
Душу пробудит, сердце воскресит!
Новый звук труб. Начинается поле.
Ряды рыцарей в роскошных бронях, сопровождаемые щитоносцами, приближаются к рогатке на конях, покрытых латами; едут медленно, с важностию; забралы опущены. Подле них, на парадных конях, едут дамы сердца; они ведут горделивых своих невольников на цепочках, свитых из лент и цветов. Проехав барьер, они развязывают оковы кавалерам сердец своих и потом продолжают путь к помостам, разбрасывая по поприщу цветы, шарфы, узлы из лент, браслеты, сплетенные из собственных их волос, перья с головы… Рыцари подбирают дары с земли, осыпают их поцелуями и готовятся заслужить оружием звания рыцаря сердца, шарф и девиз своей дамы.
Рыцари становятся строем на двух оконечностях поприща, ждут сигнала, прислушиваются к словам джюджедура, который повторяет закон турнира: «Рыцари! да не поранит никто из вас коня противника своего; мета копью – лицо и грудь; меч рубит, но не колет. Поднятому или разбитому забралу – пощада!»
Джюджедур ударил три раза в ладоши; сигнал к общему бою раздался. Пришпоренные кони ринулись с мест, земля дрогнула; два строя всадников, приклонив голову, уставив копья вперед, налетели друг на друга… Казалось, что посреди поприща разразилась громовая туча, рассыпалась искрами и треском; взвилась пыль… Две противные стороны то столкнутся, то расступятся. Но общий бой прерван сигналом – строи разъезжаются. Теперь один на один – по вызову. Вскипела во мне жажда победы… Я пришпорил коня, перелетел через ограду… Кто на меня? Вызываю! Нет создания в природе лучше Елены! Пой, минстрель! славь Елену!
Минстрель запел лей Елене, вместо вызова:
Кто в истомлении, в восторге сердца,
Елены не видав, осмелится промолвить,
Что видел божество любви и красоты,
Кисть хмеля принял тот за грозд пурпурный
И хладную луну за пламенное солнце.
Слепец! я исцелю тебя от слепоты!
Неизвестный рыцарь, в черной броне, без гербов, без шарфа дамы сердца и девиза, выехал на средину поприща… Это противник, соперник мой – суженый Елены!
Злобно взглянул он на меня, я на него; разъехались, повернули – сигнал подан… Вот он! Брызнули искры из стальной брони… А! вон он! Подо мной суженый Елены! Моли о пощаде!..
«Коня убил! Преступник закона!» – раздалось вокруг… Стрелы со всех сторон готовы были поразить меня, но знамя пощады распростерлось надо мною, и герольд повестил, что конь противника моего убит по неосторожности.
Меня ведут к венчающей победу… это Елена!.. Я преклонил колено… Громкий хор запел славу, а Елена увенчала меня… подала руку, и мы пошли, сопровождаемые хором, джюджедурами и рыцарями. В пространной зале сели мы за круглый стол. Передо мной поставили жареного павлина, которого, по обычаю, победитель должен был распластать на сто частей; потом поднесли огромный бокал векового Гейдельберга. Я поднял бокал… «За здравие Елены!» – хотел сказать я… Где ж она? Нет ее? О, на сто частей разорвалось мое сердце, когда я взглянул вокруг себя… Мрачный замок Гейдельберг, разгромленный самим небом, воздымался на горе, как на острове, посреди моря тумана. По чешуйчатому небу разливался свет луны. Я лежал под деревом на берегу Неккара, смоченный холодной росою ночи…
V
Я приехал в Эмс, начал курс лечения. Вдруг письмо… Рука Мемнона! И только две строчки – только, но сколько блаженства почерпнул я в них! Как, они были красноречивы! как исполнены дружбы! «Приезжай, – писал он, – Елена будет твоею; все препятствия устранены».
Можно представить себе, с каким нетерпением желал я лететь в Россию, но, предполагая ехать обратно, по обещанию брату, через Бессарабию, где он в то время находился, я не мог переменить намерения и, сверх того, я хотел видеть Дунай и взглянуть на Букарест, где был с отцом своим во время войны в 1810 году. Кажется, сама судьба влекла меня по этому пути, чтобы развязать повесть моей жизни.
Из Эмса приехал я в Вену, потом в Буду и оттуда на небольшом купеческом судне, отправлявшемся в Галац, решился пуститься по Дунаю.
Нисколько не заботясь о современных политических обстоятельствах, я совершенно не знал, что делается на берегах Дуная. Я думал только об Елене. Наслаждаясь природой, слушал по вечерам заунывную песню матроса и, проехав таким образом до Галаца, я был бы принужден сделать около четырехсот верст лишних, чтобы попасть в Букарест. К счастию, хозяин корабля спросил меня, куда я еду, и сказал, что я могу выйти на берег при Журжинской переправе и проехать в Букарест прямым путем. Это был подарок для рассеянного. На лодке переехал я в Слободзею и там, наняв почту, отправился в столицу Валахии. Никто не спрашивал меня, кто я, откуда, куда еду и есть ли у меня какой-нибудь вид.
Подъезжая к Букаресту вечером, вдруг увидели мы на самой дороге, сквозь деревья, разложенный огонь и вокруг него толпу людей. Шум и песни раздавались по лесу.
Суруджи[3] приостановил лошадей, со страхом произнес:
– Чи есть?[4]
– Это, верно, табор цыганский?
– Нуй, нуй, боерь![5] – повторял он, продолжая медленно подвигаться вперед.
Едва проехали мы заворот дороги, толпа вполне открылась перед нами. Над огнем, на козлах, висел котелок, а вокруг него лежали и ходили вооруженные люди в мантах, в скуфьях, в кушмах, в чалмах, в албанской одежде. Страшные, смуглые лица их с отвислыми усами казались от блеска огня раскаленными.
– Талгарь! Талгаръ! Разбойники! – проговорил суруджи, с ужасом остановив лошадей. – Недобре, недобре! – прошептал он еще и готов уже был свернуть с дороги в лес, но стук и дребезг каруцы[6] и топот лошадей обратили на себя внимание толпы. Несколько человек вскочило на коней, и мы были окружены какими-то чудовищами, вооруженными с головы до ног.
– Стэ![7] – закричали они, заскакав вперед.
Я выхватил пистолет.
– Русский офицер! – крикнул мой слуга, вообразив, что спрашивают: кто?
– Офицер русяск? – повторил один из наездников: – Хэ! Мой![8] капитан Пендедека!
И он поскакал к толпе, между тем как двое стояли спокойно перед лошадьми, а прочие разъезжали вокруг каруцы.
Поздно было требовать пути одним выстрелом у целой толпы вооруженных. Я полагал, что явится кто-нибудь знающий по-русски для расспросов, но вдруг тучный всадник, похожий на атамана шайки, подлетел на лихом коне и закричал мне:
– Офицерь?
– Да! – отвечал я.
– Хайд, мерже ла Калентино![9] – прокомандовал он без дальних расспросов.
Суруджи приударил по лошадям; меня повезли. Вся толпа поскакала вслед за мною, и не прошло нескольких минут, как я увидел новые толпы вооруженного сброда вокруг огней близ селения. Мне казалось, что меня везут на шабаш нечистой силы.
Со всех сторон раздавались дикие голоса, которые пели:
Ипсиланти фетмаршал,
Дука маре инарал!
Пом-пом-пом-померани-пом!
Каруца моя и провожатые остановились подле освещенного боярского дома.
Тут только узнал я, что меня привезли в селение Калептино, главную квартиру Ипсиланти, предводителя этеристов.
– Фетмаршалу акас? Дома фельдмаршал? – спросил капитан Пендедека, которого я принял за атамана разбойничьей шайки.
– Хэ! Ипсиланти содус ку тота армия ла Тырговешти; нума эфор[10] Дука акас! – отвечали двое арнаутов, стоявших на крыльце, подле входа в сени, с саблями наголо.
Я понял смысл сказанных слов: «Ипсиланти со всей армией удалился в Тырговешти, и в селении Калентине только эфор Дука». Его-то величали этеристы в песне своей маре инарал, великий генерал.
Меня ввели в дом. В передней комнате подле дверей, завешанных красным сукном, стояла толпа арнаутов, в роскошной своей одежде. Они заняты были продуванием, накладыванием и раскуркой трубок.
Вслед за капитаном Пендедекой вошел я в комнату, где на диване, свернув под себя ноги, сидел Дука, эфор этерии. Антерия[11] из шелковой с золотыми полосками ткани распахнулась на полы; красные широкие шаровары переливались под нею, как полымя; все туловище его было обернуто турецкою шалью, за которую заткнуты были на толстой золотой цепи часорник[12] с огромною связкою печатей и басман;[13] на голове была скуфья из шелковой материи, обшитая бумазеей. Перед ним стоял ломберный стол, а в жирной руке его утонула колода карт; он метал фараон. Несколько бояр в серых смушковых кочулах[14] сидели вокруг стола, пыхтели дымом и гнули углы на пэ и транспорты.
– Чи есть? – спросил Дука.
Не ожидая объяснений Пендедеки, я подошел к Эфору, сказал по-французски, что я русский путешественник и что на дороге к Букаресту остановлен его арнаутами…
Я хотел высказать свое неудовольствие за это насилие и просить, чтобы он приказал проводить меня в Букарест или из круга расположения этеристов, но он не дал мне кончить речи, обратился к своим собеседникам, сказал им что-то по-гречески, и они вышли из комнаты. Потом, приглашая меня сесть на диван, хлопнул три раза в ладоши. Явились два арнаута, один с трубкой, другой с дульчецом[15] и с кружкой воды на подносе. Я не отказался от азиатского обычного предложения – усладить горесть свою, прохладить сердце и питаться дымом надежды.
Когда мы остались одни, Дука таинственно спросил меня:
– Позвольте узнать, к кому вы ехали?
– Я просто проезжал из Австрии в Россию, – отвечал я.
– Хм! через Австрию! Здесь не дорога, вам надобно было ехать на Черновец, прямо из Австрии в Россию…
– Я хотел проехать по Дунаю, видеть Букарест…
– Нет, скажите, вы можете мне сказать… К господарю?.. Или к князю Ипсиланти?.. Вероятно, депеши…
– Уверяю вас, что я просто еду как путешественник, без всяких поручений.
– Теперь не время путешествовать без цели, – сказал Дука, усмехаясь. – Но все равно, мы понимаем… И во всяком случае, я обязан отправить вас к князю Ипсиланти. Его главная квартира в Тырговешти.
– Помилуйте! зачем мне ехать к нему? – вскричал я.
– Ни для чего больше, как для объяснения ему причины вашей поездки в Букарест. Теперь, милостивый государь, нет сношений ни с господарем, ни с Диваном мимо князя Ипсиланти. Хэ! мой! капитан Алеко! – вскричал Дука после сих слов.
Явился капитан Алеко в казацкой одежде из черного сукна.
– Вот этот господин проводит вас в Тырговешти, – сказал мне Дука, отдав приказание капитану Алеке.
Нечего было делать; я вышел.
– Где мой слуга? – спросил я у арнаута, не видя подле крыльца ни каруцы своей, ни слуги.
– Нушти! не знаю, – отвечал мне арнаут.
– Где каруца?
– Нушти! – повторил арнаут.
– Ни моего слуги, ни каруцы нет! – сказал я капитану Алеко.
Он стал расспрашивать у разного сброда людей, которые стояли на крыльце и ходили по двору.
– Нушти! – отвечали все. – Суруджи сел и поехал, а слуга пошел вслед за ним.
Я выходил из себя. Слуга мой вскоре пришел весь в слезах и сказал, что почтарь ускакал, а чемодан, положенный на крыльце, пропал.
Я воротился к Дуке и просил его приказать отыскать мои вещи.
– Не наше дело отыскивать ваши вещи, – отвечал эфор этерии. – Подайте прошение в Диван.
Взбешенный, я сел на коня, которого Дука велел дать мне, и поехал под конвоем безобразных воев Ипсиланти. На другой день уж к обеду стали мы приближаться к местечку Тырговешти. С высот над рекою Яломицей я увидел главную квартиру этеристов. Она походила на табор и толкучий рынок; повсюду копошились вооруженные люди в молдавской, сербской, арнаутской одежде, в лохмотьях и в кованых золоченых нагрудниках, нарамниках и набедренниках.
Въезжая в Тырговешти, я увидел тот Священный батальон, который под знаменем возрожденного Феникса готовился пожать славу и бессмертие. В черных полукафтаньях, с высокими черными мерлушковыми шапками, загнутыми набок и украшенными серебряною Адамовою головою спереди, воины бродили по городу в ожидании великой своей будущности.
Мы приехали к одному дому с большим крыльцом под навесом. Тут развевалось знамя этерии, на котором вышит был феникс с греческою надписью: «Возрождаюсь из собственного праха». У входа подле дверей стояли двое часовых с сложенными накрест ружьями.
Это был курте господаряск, двор, или дворец господарский. Соскочив с лошади, я хотел идти на крыльцо, но капитан Алеко удержал меня.
– Не сюда, – сказал он, – это священное крыльцо, по которому никто не смеет всходить, кроме самого фельдмаршала.
«Плохо, – подумал я, – если к идолу храма ходят с заднего крыльца!»
– Что за люди? – спросил напитай Алеко, увидя нескольких человек верховых в мантах подле бокового подъезда. – Пандуры![16] – отвечали они гордо. – От вайводы Тодора Владимиреско, с капитаном Фармаки.
То были передовые начальника, или, лучше сказать, атамана пандуров Малой Валахии, который, пользуясь возникшими после смерти валашского господаря Каражди смятениями, по случаю этерии, или греческого восстания, собрал пандуров, сербских гайдуков, валашских талгарей и все, что было дружно с темной ночью да с острым ножом, объявил себя воеводой и защитником отчизны от ига греческих господарей, назначаемых Портою, проник с шайкою своей в Букарест, овладел Диваном, заставил воротиться Каллимахи, назначенного в господари Валахии, казнил бояр, привел всех в ужас и заставил разбежаться на все четыре стороны.
Ипсиланти думал в нем найти поборника и встретил противника, который, однако ж, решился приехать к добровольному архистратигу[17] Греции.
Взойдя по крыльцу профанов,[18] я ожидал, что меня введут в Периррантириа и окропят водою, как вступающего в храм громовержца Зевса, но очутился в передней, где было несколько, вероятно, значительных лиц штаба этерии. Пока доложили обо мне Ипсиланти, я присел подле какого-то чиновника в казакине. Посмотрев на меня, он как будто отгадал, что я русский, и обратился ко мне с вопросом, не служить ли я приехал к Ипсиланти. Разговорившись с ним, я желал знать, что за особа в больших шитых эполетах, спасенных, вероятно, от выжиги и прицепленных к мундиру не мундиру, а к чему-то вроде кацавейки.
– Это Орфано, фичеру ди кына;[19] он был в Одессе служитором у купца Бокара, а здесь инарал. А вот другой – это Лассапи; был фактор в Песте, а здесь комендант Терговишта. Драку шти![20] Чорт знает, зачем я приехал сюда! Тут все начальники. Правду говорит греческая пословица: «Где соберутся три грека, там всегда четыре начальника: их трое да чорт четвертый». Вот князь Георгий лихой, а это… хм!
Собеседник мой не успел еще сказать мне имен и происхождения всех стратигов, эфоров, капитанов, тут бывших, как меня позвали к Ипсиланти.
Пройдя одну комнату, передо мной отворили двери кабинета; я вошел. В широких креслах подле стола сидел смуглый, худощавый генерал; на плеча его накинута была греческая пурпуровая мантия, с длинными до полу рукавами.
– Какую новость привезли вы нам? – сказал он, обращаясь ко мне, и, не дожидаясь ответа, приказал выйти сидевшему подле стола писцу, которому, как казалось, что-то диктовал.
– Вы откуда? – спросил он торопливо по выходе писца.
– Я русский и ездил за границу на воды, – отвечал я и рассказал все приключения свои со времени вступления на берега Валахии.