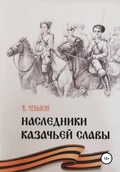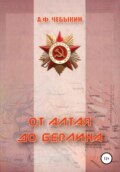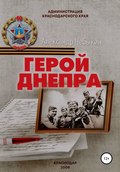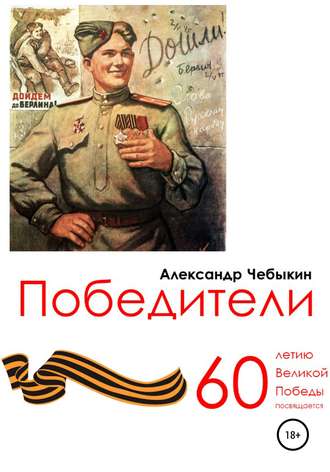
Александр Федорович Чебыкин
Победители
Форсирование реки Нитра
Война шла к концу. Фашисты сопротивлялись яростно, цеплялись за каждый рубеж обороны. К началу апреля полк вышел к реке Нитра. Оба берега были укреплены железобетонными дотами. Разлившуюся в половодье реку с ходу форсировать не удалось. Немцы били из укрытий прямой наводкой из пушек и крупнокалиберных пулеметов. Пришлось спешиться. Попытки перенаправить на надувных понтонах успеха не имели. Было решено отобрать добровольцев и ночью захватить плацдарм на другом берегу. Группу возглавил старший лейтенант Дегтярев. Во второй половине ночи, разбившись на две группы по 20 человек, начали выдвигаться к реке. На плечах несли две понтонные лодки. Обувь обернули тряпками. Стали переправляться, но, не проплыв и десяти метров, понтоны сели на затопленные кусты.
До берега шли в ледяной воде. Выбравшись на берег, полезли по раскисшему озимому полю. Наткнулись на дамбу, которую охранял часовой. Двое отчаянных молодых казаков бесшумно сняли его. Небольшими группами перебежали через дамбу. Подползли к немецким окопам и забросали их гранатами. Плацдарм был захвачен, что дало возможность переправиться полку через реку. За эту операцию старшему лейтенанту Дегтяреву Д.Х. был вручен орден Отечественной войны II степени. Полк продолжал наступать, форсируя реки и освобождая города Словакии. После переправы с боем через реку Морава полк ввязался в бой на подступах к городу Брно. Эскадрон старшего лейтенанта Дегтярева двигался в головном дозоре. Весна. Цветут деревья. Ярко светит солнце. Конец войны уже виден. Каждый думал: «Хорошо бы дожить до победы!»
Слева – горы, справа – лесостепь. Впереди взвод младшего лейтенанта Чернецова с пулеметной тачанкой. На горизонте просматривается костел. Вдруг из-за дерева застрочил пулемет. Головной взвод спешился. Дегтярев приказал: «Эскадрон, к бою! Рысью вперед!» Связной доложил, что головной взвод наскочил на засаду. Подскакав к месту боя, Дегтярев приказал спешить и продолжал наступление в сторону населенного пункта. Короткими перебежками преодолели простреливаемое пространство и ворвались в село. Немцы не выдержали натиска и, отстреливаясь, отступили. Прочесывая селение, в одном из дворов казаки обнаружили немцев. Окружили. Дали несколько очередей. Из-за забора голоса: «Рус, не стрелять! Гитлер капут!» В калитке показался солдат: «Найн немец, австрияк!» За ним выстроилась цепочка с поднятыми руками. Старший лейтенант Дегтярев подал команду: «Выходи, оружие бросай у калитки». Когда первый австриец с поднятыми руками прошел калитку, раздалась автоматная очередь. Австриец упал, остальные подались назад. Дегтярев крикнул: «Кто стрелял?!» Вперед вышел сержант Чесебиев: «Это я – за погибших ребят, за повешенных родителей». Раздались голоса: «Не место самосуду!» Сержанта скрутили, отобрали автомат. Преодолев страх, вышло еще человек десять, сбрасывая оружие в кучу. Продолжая прочесывать селение, наткнулись на засевших в кирпичной двухэтажной школе немцев. Казаки, сосредоточившись у школьного забора, попали под огонь из второго этажа. Ни вперед, ни назад. К эскадрону примкнул словак, который называл немцев оккупантами. Воевал он напористо, храбро, был за разведчика и проводника. Попросил ручной пулемет, чтобы с крыши сарайчика вести огонь по окнам школы. Только взобрался, пристроился и начал вести огонь, как был убит стрелком из снайперской винтовки. Казаки очень жалели отважного словака. Под забором нашли щель, расширили и протолкали пулеметчика со стволом от «максима» без станины. Пулеметчик открыл интенсивный огонь по окнам школы, что дало казакам возможность ворваться во двор и захватить первый этаж. Завязался бой между этажами. Немцы не выдержали интенсивного огня и через пролом в стене покинули здание.
На следующий день эскадрон вел бои на подступах к Брно.
Бой за Брно
К утру 26 апреля полк в пешем строю сосредоточился в оврагах перед городом. Эскадрон наступал на левом фланге полка. Цепь медленно продвигалась вперед. Неожиданно из затянутой туманом низины застучал пулемет. Эскадрон залег. Появились убитые и раненые. Остальные эскадроны продвигались вперед. Дегтярев приказал командиру пулеметного взвода младшему лейтенанту Кидинову прикрыть левый фланг. Немецкий пулемет замолчал, но только эскадрон поднялся, как снова раздались очереди. Эскадрон залег. Когда стрельба затихла, старший лейтенант Дегтярев поднялся и побежал вдоль цепи, повторяя команду: «Встать, вперед!» Однако бойцы лежали, боясь попасть под новые пулеметные очереди врага. Дегтярев бегал от казака к казаку, поднимая их за воротники, выкрикивая: «Вперед!» Но напрасно. Эскадрон лежал, только несколько казаков вскочили и перебежками устремились вперед. Войне конец, сработал инстинкт самосохранения. В этот момент Дегтярев услышал одиночный выстрел. Пуля прошла ниже пояса, прострелив обе ягодицы. Дегтярев слышал крик: «Комэска ранило!» Эскадрон вскочил и ринулся вперед, к окраинам Брно. Старшего лейтенанта Дегтярева брючными ремнями привязали к полевой кухне. Рана беспокоила его меньше, чем «барашки» от крышки котла, которые на колдобинах дороги впивались в тело. Повар гнал лошадей, чтобы быстрее вырваться из-под обстрела. Это было последнее, шестое, ранение старшего лейтенанта Дегтярева. Потом, при выписке из госпиталя, Дмитрий шутил над собой: «Это чтобы зад не показывал фашистам!» – и всегда стыдился говорить о своем шестом ранении. В автобиографии так и писал: «Имею пять ранений».
Радость победы
В столице Венгрии Будапеште в ночь с 8 на 9 мая 1945 года эшелон с ранеными поставили на запасной путь под загрузку. Ночь была темная и тихая, только слышались стоны раненых. И вдруг в городе началась стрельба, сначала неуверенная, а том охватившая весь город. В воздух летели сотни ракет, протяжно гудели паровозные гудки. Понеслись крики: «Ура! Конец войне!» Тяжелораненые сползали с нар, плакали, обнимались, повторяя: «Победа! Победа!»
После излечения в госпитале в пригороде Будапешта – городке Геделе – в июне 1945 года старший лейтенант Дегтярев Д.Х. догнал родной полк на марше и принял свой гвардейский 4-й эскадрон.
Домой, на родину
Корпус двигался маршем из Чехословакии через Польшу к границе Советского Союза. Это был марш торжества, радости и скорби. Стояли теплые дни. Кругом благоухало, и казалось, что сама природа радовалась нашей победе. Радовалась, что мы живы и едем домой, на встречу с Родиной. Чехи, словаки, поляки тепло провожали советских бойцов, как освободителей от фашистских захватчиков. Наряду с радостью была и скорбь погибших товарищей, которые остались в чужой земле.
Советские солдаты знали, что западные районы страны в разрухе, поэтому командование ставило задачу сохранить и доставить на родную землю конское поголовье. За каждой бричкой вели по 10 – 12 лошадей. На повозках везли сено, фуры, продукты, жеребят. В пути догоняли приказы о демобилизации казаков старших возрастов. Не раз приходилось вступать в стычки с бандеровцами.
В июле подошли к польско-советской границе. Была устроена торжественная встреча. Командир полка доложил встречающему командованию: «Товарищ генерал! 42-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский полк после разгрома гитлеровской Германии возвращается на Родину. Командир полка подполковник Гильман». На границе погрузились в эшелоны.
20 августа 1945 года полк прибыл в город Майкоп, а после разгрузки – своим маршем в станицу Гиагинскую. В сентябре 1945 года 10-я кавалерийская дивизия 4-го Кубанского корпуса начала подготовку к параду Победы. Во второй половине сентября в воскресенье, полки дивизии в боевом порядке при полном вооружении прошли по улицам Майкопа. Принимал парад командир дивизии генерал-майор Шмуйло Сергей Трофимович. В конце 1946 года 10-я кавалерийская дивизия была сведена в кавполк, который был передислоцирован в город Ставрополь. Так закончился боевой путь 42-го Кубанского казачьего полка.
10 июня 1946 года старший лейтенант Дегтярев Дмитрий Харлампиевич был демобилизован.
Когда Дмитрий вернулся в родные стены, его отец, демобилизованный в 1943 году по контузии, уже был дома. С осени 1941 года Харлампий Макарович Дегтярь рядовым бойцом стрелкового полка прошел боевой путь от Харькова до Сталинграда. При бомбежке в ноябре 1942 года был смертельно ранен. Посчитали мертвым. Когда хоронили в братской могиле, кто-то заметил, что он шевельнул ногой. Вытащили, отправили в госпиталь. После восьми месяцев лечения выписали и демобилизовали.
У истоков возрождения казачества
Вернувшись после демобилизации к родителям в город Апшеронск, старший лейтенант Дегтярев вскоре начал строить дом, с расчетом, что пришло время обзаводиться своей семьей. Познакомился с самой обаятельной девушкой Апшеронска – Галиной Беловой, заведующей лабораторией, направленной по распределению после окончания техникума. Немного подружили, сыграли свадьбу. Работал машинистом паровых турбин, председателем месткома профсоюза Апшеронской ЦЭС. В августе 1947 года родился первенец Виктор, в 1949 году – дочь Ирина. В 1951 году Дегтярева избирают председателем Апшеронского районного комитета профсоюза нефтяников. Работа ответственная, хлопотная. В 1952 году переезжает в Краснодар, где избирается председателем профкома нефтяного техникума. Дмитрий Харлампиевич Дегтярев участвует в общественной жизни города. Непосредственно занимается воспитательной работой среди студенческой молодежи. С уходом на пенсию включается в работу ветеранского движения. Входит в Совет ветеранов 4-го Кубанского казачьего корпуса. На протяжении двадцати лет – бессмертный секретарь Совета. Как потомственный казак стоял у истоков возрождения казачества на Кубани. Является председателем Совета стариков офицерской сотни Кубанского казачьего войска, заместителем председателя Совета стариков Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска. С ветеранами 4-го Кубанского казачьего корпуса проходил по Красной площади 9 мая 1995 года в Параде в честь 50-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Братья и сестры Дмитрия Харлампиевича трудятся на благо Отечества на земле российской.
7 ноября 2003 года казаки Кубанского казачьего войска торжественно отметили 80-летие Дмитрия Харлампиевича Дегтярева. Юбиляра поздравили атаман Кубанского казачьего войска казачий генерал В.П. Громов, атаман Екатеринодарского отдела, казаки офицерской сотни.
Коломийцы
Чужие на своей земле
1861 год. Указ императора Александра II об отмене крепостного права. Село Степное Запорожской области. Кругом степь, степь, степь, изрезанная буераками. В некоторых местах чернозем совсем исчез: выветрило. Осталась каменистая малоплодородная земля. Лесов совсем нет, кое-где по овражкам растет хилый бересклет да шеперистый тополь. Изредка попадаются сколки акации, которой не дают подрасти – по ночам втихаря подрубают. Старая акация что кость – в столбах долговечна, а молодая, неокрепшая, годится только на колья к тыну. Хаты в селе – мазанки, а сарайчики и хлева сооружаются из ивняка и обмазываются глиной, которую надо возить с речки. Полдня езды – ближе нет. Речки выверками текут по суходолам, вытоптанными скотом берегами. Степь… Земля истощена многовековой обработкой и ветрами-суховеями. Смешно, но черноземную степь надо удобрять навозом, чтобы хоть что-нибудь уродилось. Свободны, всегда свободны, но земля чужая – государственная… Хотя почему она чужая – непонятно, деды сказывали: когда ее заселяли – была ничейная. В старину по ней кочевники – сарматы и караимы – гоняли свои стада. Объедят траву, вытопчут коренья и уходят, а заброшенная земля пылила и долго не родила, пока не зарастала сорняками. Но другой земли не было, и они продолжали тут жить. Население с каждым десятилетием прирастало наполовину. Земли не хватало. Шел ее передел, братья бросались друг на друга с кулаками, толкались, спорили, каждый доказывал, что этот участок должен принадлежать ему. Сзади стояли жены с малышней, тоскливо поглядывая на серую каменистую землю, изредка бросая реплики в поддержку мужьям. Подъехали на бричках и другие мужики с хутора, помнили, что по обычаю надо бросать жребий: кому что попадет, значит, так тому и быть. Братья успокоились, поняли, что за эти годы народу прибавилось, а земли уменьшилось. Целые шины стояли голяком, а другие поля стали неплодородны, истощились. Решили отправить делегацию к царю-батюшке. Сообщали, что государство расширилось: прибавились земли Сибири, и за Кубанью.
Через два месяца делегация вернулась с ответом. Кто пожелает, может ехать на новые земли. Кто поедет в Сибирь – будут давать дорожные деньги и первое десятилетие не взимать налоги. Кто поедет в Закубанье – он и его дети становятся государственными людьми и будут служить пожизненно налогов на землю там не платят, а закрепленная земля является общественной собственностью. На хуторе за неповиновение пугали Сибирью, вечной зимой. А Кубань – тут, рядом, за Доном, говорили, там теплее и земля благодатная.
Незнаемая земля
Решили ехать в Закубанье. Долго спорили: по жребию и добровольно. Несколько молодых семей решили ехать добровольно, к ним присоединился Ярослав Митрофанович Коломеец с сыном Дием и невесткой. Набралось шестьдесят две семьи и шесть бобылей. Решили выезжать, как только подсохнут дороги. На переправе через Дон к ним присоединялись – еще и еще. На том берегу насчитали уже более четырехсот подвод.
На вторую неделю Пасхи 1864 года прибыли в Екатеринодар. Ухоженный, с прямыми улицами городок порадовал, расположился на сенном базаре. На другой день перед переселенцами выступил атаман Кубанского казачьего войска Феликс Николаевич Сумароков-Эльстон. Пояснил, что земли закубанские – богатые и обильные, плодородные, пойменные, но бывают годы, когда река Кубань разливается широко, поэтому место для заселения надо выбирать возвышенное. Левый берег реки – низменный, болотистый, с резким переходом, возвышенность к подошве Кавказских гор. Хотя территория очищена от банд черкесов, но встречаются отдельные группы головорезов, готовых поживиться за чужой счет, поэтому кроме обработки земли, важно научиться отлично владеть оружием. Пообещал три года не привлекать к службе, но защищаться придется самим. Разбил по куреням, долго выбирали атаманов дали сопровождение землемера. В полдень обоз переправился через Кубань. Вдоль реки по старицам заросли камыша дубравы и старые ветлы. Кое-где попадались широкие поляны разнотравья. В сторону гор шел лиственный лес с плотным кустарниковым подлеском из кизила, боярышника и шиповника.
К вечеру были на месте – на берегу реки Убин. Снова бросили жребий – по месту расположения. Атаманом куреня, в который попали Коломийцы, был Степан Северский. Он тоже запорожский, с соседнего хутора, видимо, предки его пришли с севера, отсюда прозвище, которое со временем переросло в родовое имя – Северские.
Выживание
Весна. Все кругом благоухало. Гомон птиц заглушал голоса. В реке плескалась рыба – плотной стеной шла на нерест. Разбили палатки, которые были выданы в войске. Приданная сотня казаков начала обследовать местность, чтобы в ночь на тропах выставить заслоны. Выгнали скот на выпас. Трава – выше колен. Начали строить землянки. Старые казаки из сопровождения подсказали, что это не степь – лес рядом, лучше строить дома не в заплот, а в паз. Рубили молодой дубняк, подгоняли. Щели замазывали вязкой глиной с обрыва. Вершили снопами из камыша, благо в плавнях было много старого, из которого вязали снопы. Прежде всего делали хаты многодетным. Снимали аршин чернозема, засыпали галькой с реки, затем песком, а сверху глиной, которую утрамбовывали битами. В окна вставляли кусочки стекла. Три дня – и хата готова. Торопились: весна – время сева.
Приступили к подготовке пашни. Женщины, дети рубили кустарник. Поджигали траву. Под молодой травой – многолетнее переплетение старой травы. Сотенный отряд сопровождения предупредил, что поляны, которые выжигаются, надо окапывать канавами, а то огонь перебросится на лес. Хотя больше опасности и нет – в лесу листовой подстил еще не просох с зимы, но кустарник горюч и огнеопасен. Вековая, нетронутая сохой земля. Сохи ломались. К вечеру люди падали от усталости. Мужики, выпив крынку молока, зажевав сухарем, тут же засыпали у костра на дерюжке. Откуда-то достали мешок кукурузы. Было решено высеять. На Троицу с полевыми работами справились, позже сеять было бесполезно.
Недруги
Дий в ночь на Троицу спал беспокойно. Вспоминал свои юные годы: как гуляли на Троицу, умыкали девчат в кусты, шел сплошной визг и смех, как грешили в эту ночь. Водили хороводы, на лугу собиралось несколько сот станичников. Хороводы кружились, как венки купавницы, брошенные на воду. В Духов купались в реке от мала до велика: подростки, старики, молодухи – все вместе.
Перед утром залаяли собаки. Никто не обратил внимание – летний сон крепок. На восходе солнца прискакал на взмыленном коне сотник, ударил в колокол, висевший на перекладине под крестом. Кругом валялись очищенные толстые дубовые бревна, заготовленные на строительство церкви. Народ сбежал площади. Сотник Чайка закричал: «Спите?! Беда у нас! Двух казаков, что были в залоге, черкесы порешили, лежат с перерезанными горлами. Лошадей ваших нет – с выпаса угнали!» Побежали на выгон. Загородь разобрана. Лошадей нет. В это время с десяток лошадей, фыркая, выбежали из подлеска, видимо отбились от табуна и вернулись обратно. Хозяева бросили своим коням.
Собрали сход. Спорили долго. Решили создать свою дружину, вооружить ее и самим охранять скот. Атамана и казачка сотника отправили в Екатеринодар просить у правительства, чтобы выделили им огнестрельное оружие. Через три дня посланцы вернулись в сопровождении десятка казаков. С собой привезли три повозки, груженные ружьями и пушку. Сотник зачитал письмо наказанного атамана, где указывалось, чтобы мужчины-поселенцы каждое утро после восхода солнца два часа занимались огневой подготовкой, выездкой, рубкой лозы, кинжальным боем, а также предписывалось создать два расчета пушкарей.
Первое лето
Июль пришел с грозами. От ударов грома земля качалась. В горах начал таять снег, речка вспучилась и стала выходить из берегов, заливать поля, засеянные гречихой. По улице потекли потоки воды. Дороги раскисли. Невозможно было пройти от хаты к хате, и в поле не выехать. Неделю шли ливни, как начались неожиданно, так и внезапно закончились. На нижних полях лежала толстая корка ила, которая под палящими лучами солнца начала трескаться. Урожай погибал. Решили под пашню вырубить мелколесье в сторону гор. Почва не чернозем, коричневый суглинок, менее плодородная, но зато не заливаемая. Станицу, за которой уже прочно закрепилось название Северская, пришлось переносить и перестраивать заново – подальше от реки, поближе к ручьям. Многим пришлось рыть колодцы. Но это не украинская степь, где до воды десять и более саженей, тут через три – четыре сажени нападали на галечник – и вода наполняла колодец, а осенью и зимой стояла доверху – черпай, не ленись. Вода была мягкая, нежная, не то, что степная украинская, солоновато-горькая. У Дия вода была с привкусом медуницы – попал на горную альпийскую жилу. Станичники приходили за водой к Дию. Жито поспело лишь к концу июля, потому что сеяли с опозданием. Пшеница уродилась полноколосная. Налилась. Утвердела. С улиц чернозем вывезли за околицу, дорогу засыпали галечником из-под обрыва реки. В августе сушь стояла три недели. В небе ни облачка, вода с заливных лугов ушла. Камыши оголились, их удобно было рубить и заготовлять на крыши. Трава на пастбище пожухла, скот пришлось пасти в лесу, где сохранились прохлада и трава.
Черкесы стали действовать группами, угоняя по две-три коровы или лошади. Охотились за лошадьми, так и за коровами. Степные коровы были черно-белые, крупные, молочные. Давали ведро за дойку. Черкесские коровы, которые круглый год паслись на подножном корме, были низкорослы, малопродуктивны. Доили их раз в сутки, и то вечером, но они были неприхотливы и приспособлены к местным условиям: умело пробирались в чаще, перепрыгивали промоины и речушки, в бескормицу могли питаться листьями и молодыми ветками.
Было принято решение: со стороны гор прорубить широкую просеку, выкопать по ней глубокий ров, за ним соорудить заборку и поставить сторожевые вышки.
В сентябре началась благодатная пора: жара спала, в огородах поспел богатый урожай. Приезжали новые поселенцы. Они помогали строиться. О топливе не думали – не то что в Запорожье. Там на зиму делали кизяки, собирали будылки и хворост к оврагам, а тут когда вырубали лес – топливом запаслись не на одну зиму. Люди радовались: земли бери – сколько осилишь, топлива – с запасом, урожай – отменный, не на один год хватит, не то что в степях, где через каждые два года засуха. Молодежь по воскресеньям джигитовала, а старшее поколение за станицей тренировалось в стрельбе по соломенным чучелам.