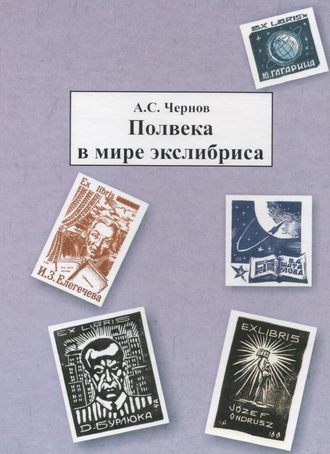
Александр Чернов
Полвека в мире экслибриса

Александр Степанович Чернов
ISBN 978-5-86609-135-5
© Чернов Александр Степанович, 2011
© Издательство МИНЦ «Нобелистика», 2011
Первое знакомство
Проще и интересней было бы начать разговор о моей встрече с экслибрисом с необычного человека, Николая Алексеевича Никифорова, тем более что он, действительно, познакомил меня с книжным знаком. И если говорить в двух словах, то можно было бы ограничиться этим утверждением, что я иногда и делал. Но жизнь не легенда, она противоречивей и интересней любой фантазии. В реальности всё значительно сложнее.
Ещё в детстве меня влекло к рисунку. Видя это, родители отдали меня в только что открывшуюся детскую художественную школу. Старшего брата, Аполлона, или Лоню, как мы его звали дома, в детстве отдавали учиться музыке, а вот меня в только что открывшуюся художественную школу. Видно, родители стремились, чтобы мы развивались всесторонне. Брата дома звали Лоня и Лоничка, а меня Шурик и иногда Шурча. В школе звали по фамилии, реже Шуриком, а в типографии Сашком, пока не стал начальником и, следовательно, Александром Степановичем, кем и остаюсь, по сей день.
У брата музыкальные занятия хоть и не заладились, но зато он проявил интерес к театру и вскоре стал ходить в театральную студию, говорят, неплохо выступал, играя в «Тётке Чарлей». Потом, будучи московским студентом, он играл в драмкружке. Интересовали его выступления на сцене и в дальнейшем, когда уже служил офицером в Академии химической защиты. Не случайно Лоня стал таким театралом, стремящимся не пропускать ярких спектаклей. Встречаясь с ним в Москве или во время его приездов в Тамбов, мы вместе часто бываем в театре.
Сцена это не моя участь. Но случилось так, что, учась, кажется, в десятом классе, я сыграл в чеховской «Хирургии». Причём, весьма успешно. В школе потом долго вспоминали, как я с одноклассником Олегом Дьяченко был на сцене. Олег создал убедительный образ занемогшего дьячка, а я – шалопая-зубодёра. Играл, помнится, с подъёмом. Открыли занавес, а я вальяжно курю, глядя, как в первом ряду сидят строгий директор Андреева и ещё более строгая завуч. Как тут не появиться куражу. Но это было единственное моё сценическое выступление.
До поступления в художественную школу моё времяпрепровождение было лёгким и не имело особого смысла. Папа тогда купил мне велосипед. Это была первая послевоенная продукция Харьковского велосипедного завода, поэтому и металл был очень мягкий, и качество такое, что велосипед часто выходил из строя. На нашей улице, совсем недалеко жили двое мальчишек, тоже с велосипедами, вот с ними я и гонял то по улицам, то на речку.
По стечению обстоятельств, друзья были из известных тамбовских купеческих семей. Семьи эти и при Советской власти жили богато. У Серёжи Толмачёва, который жил в Москве, но приезжал на каникулы, дед работал здесь в универмаге на прибыльном месте заведующего мануфактурным отделом, а отец был в Москве милицейским генералом. Ухоженный дом деда был за высоким забором и обслуживался прислугой. У приезжавшего тоже на каникулы Бори Гусева дед работал в обкоме, но не политиком, а по хозяйственной части (в молодости, сразу после революции, он командовал местной милицией). А Борин отец служил в КГБ и находился где-то за границей, кажется, в ГДР.
Наша семья не имела сада, был, правда, небольшой палисадник с дикой яблонькой. А у ребят были большие сады. Причём, у Толмачёва образцово ухоженный наёмным садовником, который, невиданное по тем временам дело, поливал из шланга яблони (в нашем доме, как и в большинстве, не было водопровода, и члены семьи, в том числе и я, ходили с вёдрами в «нашу» колонку, а при частой её поломке и на соседнюю улицу). Вот мы с мальчишками или играли в их саду, или бездумно катались на велосипедах. У Гусевых в сарае были старинные пишущие машинки интересных конструкций, старые велосипеды, граммофон и огромная коллекция грампластинок, которые мы слушали на трофейной немецкой радиоле. К тому же, у Гусевых были и фотоаппараты («Фотокор» с гармошкой и небольшой немецкий) и фотолаборатория, где мы иногда учились снимать. Полученные навыки мне потом неоднократно пригодились.
Вспоминаю и начинаю осознавать, удивительно интеллигентные были соседи по улице – скрипачка, архивист, священник, красивая дочь которого работала в библиотеке, фотограф, доцент пединститута, школьный учитель, семья преподавателей музыкального училища, профессор пединститута Кобяшов. Не случайно председателем уличкома была сосланная в Тамбов по Ленинградскому делу «бывшая». Но были, конечно, и простые люди, живущие не просто скромно, как все, а даже бедно. Мой одноклассник, очень хороший мальчишка, Юра Казьмин, мама которого работала санитаркой в госпитале, жил в сыром подвале соседнего дома. Возможно, не только моя улица была такая, ведь, когда бывал у тёти на улице Августа Бебеля, то играл с сыном пединститутского профессора Кравцова, жившего напротив неё. А на соседней, Флотской, улице неподалёку от художника Лёвшина жил преподаватель пединститута Сомов, к которому на летние каникулы приезжали из Москвы мальчишки, мои ровесники. С ними часто проводил время на речке.
То было время до моего поступления в художественную школу.
Время беспечных игр.
После того, как стал учиться в двух школах, всё резко изменилось, и, к сожалению, насовсем потерялась связь с теми друзьями.
Одноклассники в общеобразовательной школе уже считали меня художником, а тут, придя в художественную школу, вдруг увидев профессиональную работу преподававших художников, я понял, как мало знаю об этом интересном мире и насколько слаб по сравнению с настоящими мастерами. Да и среди учащихся там были такие талантливые ребята, как Бучнев и Семёнов, которые рисовали куда интереснее меня. Пережитое заставило учиться и более требовательно относиться к своим художественным экспериментам.
Графику в Тамбовской детской художественной школе преподавал Алексей Иванович Лёвшин, профессионал, а, главное, интересный человек, который относился к нам, мальчишкам и девчонкам, подчёркнуто как к коллегам. Он же был и директором этой школы.
Живопись и композицию преподавал Николай Александрович Отнякин. Тонкий живописец, увлекавшийся экспрессионистами. И это у него сочеталось с крестьянской скромностью и любовью к сельским видам. Мне, тогда увлекавшемуся музыкой Гленна Миллера, современными танцами, молодёжной модой (обладателей которой общество называло стилягами), было трудно понять его. И, то ли из-за этого недопонимания, то ли из-за небольшого моего дальтонизма (холодные цвета вижу сильнее, чем тёплые), но занятия по живописи у меня шли хуже, чем по графике.
Но вот в чём я был уверен в своих силах, так это в скульптуре. Её нам преподавал Юрий Алексеевич Романовский. Я чувствовал пластику, видел то, что сделаю. У меня как-то сразу сложилось хорошее понимание того, что хочет мне дать этот учитель. Удивительное дело, он, кажется, не имел художественного образования, но знал и чувствовал многое. Юрий Алексеевич, который кроме преподавания лепки ещё и готовил всякую лепнину для строящихся зданий, он, казалось, выделял меня из среды учащихся и даже приглашал к себе на стройки, где я с интересом знакомился, как делаются алебастровые отливки украшений.
Спустя годы судьба свела меня с его братом, Алексеем Алексеевичем Романовским, очень похожим на него, и не только внешне. Алексей Алексеевич был заведующим кафедрой начертательной геометрии в ТИХМе, где работал и я. Причём, хорошо разбираясь в начертательной геометрии, он не имел учёной степени даже кандидата наук, хотя принято, что на этой должности обычно работает доктор наук. Невольно напрашивается аналогия с его братом, преподававшим скульптуру, не имея высшего образования.
Благодаря Юрию Алексеевичу, я научился воспринимать скульптуры профессиональным взглядом, вплоть до того, что видел недостатки известных, уже установленных памятников. Почувствовав себя скульптором, я, спустя некоторое время, даже совершил попытку устроиться лепщиком в строительной организации. И меня согласились взять на эту работу, но в должности штукатура, что мне показалось обидным.
Ещё в художественной школе преподавал Леонид Васильевич Лебедев. Он вёл искусствоведение. Леонид Васильевич оставил неизгладимые впечатления. Очень худой, с ввалившимися щеками и живыми внимательными глазами. Если сказать, что одевался бедно, значит, ничего не сказать. Тогда, в послевоенное время, многие одевались очень скромно. Например, мой учитель географии, у которого я учился сначала в 8-й школе, а затем в 19-й, Василий Иванович Марков, учитель талантливый, интересный, заслуженный, орденоносец, ходил всё время в каком-то синем байковом кителе, явно не фабричного изготовления. Китель этот, многократно стиранный и потёртый был, похоже, довоенного времени. Но даже на этом фоне Лебедев выглядел бедно, тем более, что шли уже пятидесятые годы, когда отменили карточную систему, появились хоть какие-то товары, и люди стали следить за своим внешним видом. К тому же ему давно надо было заняться протезированием своих зубов. Но когда приходил в школу этот преподаватель в старой заштопанной одежде с большим рюкзаком за спиной и развязывал его, происходило чудо. Из рюкзака он доставал уникальные, богато иллюстрированные издания картинных галерей. Были и зарубежные книги, немецкие, французские, отпечатанные на шикарной бумаге. Разговор о творчестве больших мастеров Лебедев мог достойно иллюстрировать, и его беседы всегда захватывали нас.
Окончил общеобразовательную и художественную школы я одновременно. Поехал в Москву вместе с одноклассниками по художественной школе, которые решили поступать в текстильный институт. Туда же за компанию подал документы и я. Вскоре, ознакомившись с работами других абитуриентов, почувствовал, что поступлю. Понял, что потом всю жизнь придётся рисовать фасоны платьев и узоры тканей. Эта перспектива показалась скучной. В последний момент перед экзаменом забрал свои документы и поехал в Ленинград в училище им. Мухиной, где готовили скульпторов. Но там конкурировали сильные абитуриенты, многие уже окончившие художественные училища. На собеседовании мне сказали, что если бы сразу приехал к ним и походил на курсы, имел бы реальную возможность поступить. А без подготовки мне надеяться нечего. В течение двух дней надо было решиться на что-то. И я в самый последний момент подал документы на юридический факультет ЛГУ, затем успешно сдав вступительные экзамены.
Перспектива работы следователя, а тем более прокурора, меня, конечно, не интересовала. Вероятно, после того, как мой отец был незаслуженно арестован в 1938 году, в нашей семье бытовало недоброжелательное отношение к правоохранительным органам, повлиявшее и на меня. Другое дело, отношение к работе юриста-международника. Поэтому и тему первой своей курсовой работы я взял о государстве Само (было такое первое славянское государство на территории нынешней Чехии). Советские историки почему-то умалчивали о нём, лишь в дореволюционных публикациях можно было найти нужный мне материал. В университете нас готовили серьёзно, поэтому я стал пользоваться научной библиотекой университета, где было огромное количество уникальных изданий.
Так мне в руки попала книга начала XIX в. об истории европейских государств. На ней были экслибрисы кого-то из Бестужевых-Рюминых и, кажется, Волконских, в библиотеку которых книга попала позднее. К тому же на титульном листе стояла печать Императорского С.-Петербургского университета, что для меня было буквально открытием. Нам, студентам, постоянно напоминали, что мы учимся в университете с большой историей, но называли его Ленинградским Ордена В.И. Ленина государственным университетом им. А.А. Жданова. До встречи с этой книгой я даже и не задумывался, что учусь в бывшем императорском университете.
В конце 1956, а, может, в самом начале 1957 года, но не позднее, я познакомился с книжным знаком. Нам, будущим юристам, только начали преподавать латынь, но, по воле случая, я уже мог перевести термин Ex Libris – как «из книг», поскольку эти слова, но в других сочетаниях, уже встречались мне. После этого, то ли в этой же библиотеке, то ли в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, куда я тоже стал тогда ходить, мне попадалась еще одна книга с экслибрисом какого-то петербургского книжного магазина, кажется, Вольфа. Я узнал, что такое экслибрис. Одновременно с неменьшим интересом разглядывал я тогда и старые мастичные штемпели на книгах, которые попали в университетскую библиотеку. Забавно было держать в руках книгу, которая, судя по штемпелю, была когда-то в личной библиотеке приват-доцента университета.
Но тогда в моём сознании экслибрис был каким-то архаичным явлением, имевшим место лишь в прошлых веках. Ну, как, например, партикулярная шпага, её ведь когда-то носили все служащие, всякие там почтмейстеры, библиотекари и прочие чиновники. Но в то же время мы не допускаем мысли, чтобы современный нам заведующий библиотекой шёл на службу при шпаге. Для меня, советского студента, экслибрис был чертой дворянского быта, поэтому я тогда не допускал, чтобы современный мне книголюб пользовался им. К тому же, знакомство моё состоялось с геральдическим экслибрисом. Время стёрло многое в памяти, но, кажется, именно экслибрис кого-то из Волконских был с фамильным гербом. А для советских трудящихся, а именно так нас тогда приучали именоваться, фамильный герб не нужен, он остался в дореволюционном прошлом, как и экслибрис.
Другое дело, мастичный штемпель на книге – вещь удобная и созвучная с воспитавшей меня бюрократической советской системой, в которой печать и аналог ей, штемпель, играли важную роль. Ну, как тут не вспомнить, что создание семьи и получение статуса мужа и жены признавалось лишь согласно штампу в паспорте. А штемпель личной библиотеки, узаконивавший владение книгой, для меня тогда был вполне современным.
Конечно, я понимал, давно уже нет приват-доцентов и присяжных поверенных, поэтому на новых штемпелях должны быть новые же статусы людей: лётчик, полярник или рационализатор. Штемпель личной библиотеки, в отличие от экслибриса, воспринимал как штрих вполне современный, необходимый в культурной жизни.
К тому же у моего отца, Степана Андреевича, любившего книги и имевшего личную библиотеку, был свой штемпель. Правда, то был не мастичный штемпель, а строка из металлического сплава, гарта, «Инженер С.А. Чернов». Тогда газета обычно версталась из таких вот строк. Её, вероятно, отлил на линотипе старый его друг, тамбовский полиграфист Александр Николаевич Быков. Хотя, возможно, это строка подписи под его статьёй в газете, подаренная ему в редакции. Однако жёсткой металлической строкой пользоваться было менее удобно, чем мастичным штемпелем, вероятно, поэтому отец поставил отпечатки этой строки лишь на нескольких книгах, а не на всей библиотеке.
А экслибрис, с которым я случайно познакомился в Ленинграде, для меня тогда был лишь любопытной, забавной чертой давно прошедшего времени.
А он, оказывается, жив
Будучи и в университете, я всё равно чувствовал себя художником. Старался раз в неделю бывать в «Эрмитаже», благо, что для студента входной билет был недорогой. Правда, посещения эти были короткие, час-полтора, не более. Поскольку смотрел с большим напряжением, пытаясь понять замыслы, то уже через час уставал. А вот в Русском музее, почему-то бывал реже, примерно раз в два месяца и тоже короткими визитами.
Влекла и театральная жизнь Ленинграда. В Тамбове я бывал в нашем драмтеатре. А, поскольку отец брал абонемент, то бывал я довольно часто. Увидев в городе на Неве разнообразие театров и их уровень, стремился насладиться этой роскошью. Интересно было увидеть игру ярких актёров, и в то же время, я, как художник, стремился прочувствовать живописность декораций, костюмов и проанализировать освещение, цветные подсветки. В первую же осень я слушал «Кармен» в Мариинском театре, называвшемся тогда Кировским. Роскошь интерьера, акустика, живой звук фантастических голосов, красота декораций и костюмов, балетные партии, словно бы открыли мне богатый мир, о котором я, приехавший из Тамбова, лишь слышал в рассказах отца. Он, часто ездив в командировки в Москву, старался бывать в Большом театре.
Помню, был настолько поражён богатством художественных приёмов оперы, что по окончании не мог пойти домой и бродил по ночному городу. Посмотрев балет «Корсар» и побывав на концертах симфонической музыки, я был поражён ещё больше, но, в то же время ощутил необходимость своей подготовки для восприятия этого чарующего мира.
Буквально с первых же дней учёбы из однокурсников сколотилась бригада оформителей. Руководил нами наш же студент, но старше по возрасту и опытный. Он даже успел немного повоевать. Я рисовал. Кстати, мои шаржи и юмористические рисунки обычно оформляли факультетские вечера. Помню, однажды у нас на вечере выступала Эдита Пьеха. Показалось, тогда у неё не было такого заграничного акцента, да и одета была без изыска, была более подвижна. Шарм пришёл к ней позже. Мне же пришлось пару раз на вечерах в факультетском хоре петь песню про целинников. Пел и смотрел на свои рисунки на стенах.
Так что меня не случайно взяли художником в эту бригаду. Был в нашей бригаде ещё очень талантливый шрифтовик (завидовал ему, ведь я плохо владею шрифтом), а также фотограф, который до этого работал в фотоателье в Таллинне. Получился очень работоспособный коллектив. Работали в выходные и по вечерам. Мы подряжались делать стенные газеты, соцобязательства и всякую наглядную агитацию магазинам, организациям. Делали и для своего факультета, но без оплаты, зато профком выделил нам комнатку и оплачивал товарные чеки на кисти, краску, фотоматериалы и прочее.
Подрабатывали мы очень неплохо. Стипендия на первом курсе была 290 рублей, на втором 300, да родители ещё каждый месяц присылали перевод, но фактически он весь шёл на оплату за квартиру. Я жил не в общежитии, а у родных (у сестры бабушки), но, как говорится, «платил за угол». Поэтому приработок в 200–300 рублей, а порой и больше, позволял почувствовать себя художником и помогал выйти из состояния выживания, купить чего-то из модной одежды, а, главное, жить в мире искусства. Ведь билет на премьеру в опере на приличных местах в партере стоил больше половины стипендии, а ведь меня интересовал ещё и балет, и драма, и сатира. Обычно я ограничивался дешёвой галёркой, но пару раз наслаждался оперой на шикарных местах в партере.
Мои слова о том, что билет на оперу был не по карману студенту, сегодня воспринимается не очень убедительно. Ведь многие, вспоминая советское прошлое, могут сказать, что билет на вечерний сеанс в кино в ценах после 1961 года стоил не дороже 50 копеек, а в клубе можно было посмотреть кино и за 25 копеек. Но то кино, массовое искусство. А опера и концерты были куда дороже. Как тут не вспомнить посещение моих родителей в Тамбове концерта Шостаковича. Отец любил музыку, но народную, даже играл на баяне. Он, помнится, с восторгом рассказывал о том очаровании, которое вызвали у него балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и опера «Иван Сусанин», которые удалось посмотреть в Большом, а вот модернизм Шостаковича ему был чужд. Сидят они на концерте, слушают, пытаясь понять заумную музыку, и папа шепчет на ухо маме: «Плакал наш гусь!». Дело в том, что прежде, чем купить билеты, он предупреждал её, что они по цене равны хорошему гусю.
Гусь же был в семье символом праздничного стола и запекался раз в году на папин день рождения. Вероятно, это шло со старых семейных традиций, когда он жил в крестьянской семье в деревне Туляны на реке Лесной Тамбов.
Так, будучи студентом юридического факультета, я, тем не менее, ощущал себя художником. На втором курсе пришло понимание, что надежды на работу международника иллюзорны. К этому времени выяснил, что в международники в конце обучения проходят очень немногие, причём, из двух категорий студентов, рекомендованные спецслужбами и племянники всяких министров, я же не был внештатником «искусствоведов в штатском», да и дяди-министра не имел. Решил срочно перейти в училище имени Мухиной, где не возражали против моего перевода. Обрадовавшись, я легко бросаю учёбу в университете, забираю свои документы и к своему ужасу узнаю, что с улицы в училище меня принять уже не могут, что надо было не торопиться с отчислением.
Мне пришлось возвращаться в свой Тамбов.
Родители, гордившиеся тем, что я учился не где-нибудь, а на том самом факультете, где ранее получал образование Ленин, конечно, были огорчены, и мне от этого было вдвойне обидно за свою бестолково сделанную попытку перейти в художественное училище.
Надо было срочно устраиваться на работу. Строители соглашались взять меня лепщиком, но на должность штукатура, однако, по молодости, амбиции не дали мне этого сделать. Спустя годы, понимаю, то была реальная возможность реализовать свои способности. Тогда отец с помощью своего друга, старого полиграфиста Быкова, помог мне устроиться учеником ручного наборщика в типографию.
Работа оказалась сложной и интересной, требующей, как и всё типографское дело, творческого подхода и находчивости. Глазомер, умение сочетать и противопоставлять чёрное и белое поле, которому я научился в рисунке и графике, помогали мне быстро освоить наборное дело. Например, в афишах очень важно не только чувствовать размеры шрифтов разных по значению строк, но ещё более важно ощущать размер белого поля вокруг строк, которое может усиливать и ослаблять впечатление от них. Используя разнообразные шрифты, надо, в то же время, создавать единое произведение. Ещё будучи учеником, я уже брался за сложные наборы, от которых норовили отказаться даже опытные наборщики и верстальщики.
К счастью, в типографии я попал, в руки рабочего наставника Николая Павловича Венецианского. Невысокого роста, худощавый, очень подвижный, он не ходил, а почти бегал; лишь на велосипеде он ездил плавно, почти замедленно. А вот набирал тексты так, что руки мелькали как у фокусника. Ему поручили моё обучение. Удивительный был человек. Вот как он, например, верстал афиши. На большой металлический талер укладывал тяжёлую металлическую рамку, по формату афиши, затем выставлял шрифты, и большие, деревянные, и поменьше, из металла-гарта, фактически, скомпоновав афишу. Затем, посмотрев внимательно, уходил в курилку, торопливо покурив, возвращался и начинал разбирать набранное.
Значит, не понравилось. Что-то слишком крупно, навязчиво. Что-то слишком мелковато, не прочтут. Или мало «воздуха» вокруг ключевых слов, и они не бросаются в глаза, или слишком много его, и текст теряется. Он обладал тонким чувством меры графики. Чаще он разбирал отдельные строки, но, бывало, и весь набор, чтобы набрать заново.
А ведь он работал по сдельным расценкам. Казалось, набрал без ошибок, можно заключить пробельными элементами набранный текст и отдавать афишу на расценку. Но он не мог делать кое-как. Поэтому перебирал заново в ущерб своему заработку. Вот такой был рабочий.
Глядя на него, я понял, что в полиграфии много ручных процессов, а результат в них зависит от творческого отношения. Оказывается, настоящий рабочий тоже творческая профессия.
Николай Павлович не был «белой вороной» одиночкой. По воле случая я застал старых рабочих, тех самых, что с дореволюционным стажем и традициями. Эти, уже ненужные бодрому социалистическому обществу, люди в старых, поношенных одеждах и стоптанной обуви, экономившие на посещениях парикмахерских, у которых всё хорошее было позади, обладали чувством профессиональной гордости. Был, помню, старик Антонов, братья Пальчиковы, Жмаев, Фролов и другие, бывшие давно уже на пенсии, но приходившие на день-два подработать, когда «горел» план.
В своё время они по 11 лет ходили в учениках-подмастерьях. Ощущая себя рабочими, гордились своим мастерством. Кто-то из них говорил, что может набрать текст по овалу, а то и по кругу. И они набирали порой такие необычные пригласительные билеты. Это непростая задача, ведь литеры, в проекции сверху прямоугольной формы. Кто-то, помнится, заявлял, что может набрать портрет Ленина и Сталина из линеек (речь шла о наборе силуэтов из штрихов). Вспоминали, как знакомого, Подбельского, который приглашал их придти и поработать ночь в его типографии. Платил он им хорошо, плюс к этому давал свои газеты, да «мерзавчик» водки. Одеты старые типографщики были в это время бедно, очень просто, но их речь была свободна от нецензурных слов. Обращались друг к другу по отчеству, а при посторонних по имени и отчеству. Интересно было видеть их церемонное приветствие. Встречаясь, они слегка приподнимали фуражки. Звучали приветствия – «Наше Вам с почтением» или «Наше Вам с кисточкой. Как драгоценное здоровье…».
На фоне деклассированных деревенских парней, приехавших в город и согласившихся работать в грязи на стройке, поэтому считавших себя рабочими, старые типографщики воспринимались привлекательно, показывая, что мат, грязная одежда не характеризует рабочего, что главное для него умение работать и уважение к труду. Поэтому я неизбежно пришёл к выводу, что типографский рабочий не меньший творец, чем скульптор, живописец или график.
В моё время типографские рабочие по сравнению с рабочими оборонных предприятий получали весьма скромную зарплату. Поэтому старые рабочие любили вспоминать время, когда высококвалифицированные типографщики были «белыми воротничками», получали больше многих, наравне с железнодорожниками, ведь были, в отличие от остальных, грамотными и должны были иметь художественный вкус. А Быков вспоминал, что когда он в 1917 году пришёл учеником в типографию, но только не нашу, а воронежскую, то его учитель, опытный наборщик, приходил на работу в смокинге, цилиндре, в накрахмаленной рубашке. В типографии переодевался в рабочую блузу, работал – руки по локоть в краске, но после работы тщательно умывался, переодевался, и шёл по городу щёголем. Верю этому, ведь Быков старый коммунист, сталинист, и ему не с руки хвалить дореволюционное время.
Все в типографии, когда я пришёл туда, работали сдельно. А расценки вещь формальная, поэтому были заказы выгодные и невыгодные для рабочих. Оценивалась площадь и количество букв. Поэтому, например, набор бухгалтерского бланка и набор плана кинозала оценивались почти одинаково. В то же время план кинозала и театра это фактически сложный чертёж, где приходится делать овальные линии, соблюдать пропорции и, если в этом ряду 16-е место находится против 14-го в предыдущем ряду, то надо всё это выдержать, чтобы кассиру, продающему билеты, было удобно вычёркивать. Приходилось набирать и шахматные задачки, и кроссворды (потом, после внедрения офсетной печати, их печатные формы стали делать уже с рисунков).
Обычно наборщики отказывались от таких сложных заказов, поскольку иной из них набирался целую смену, а платили за него часовую зарплату. Чаще хитрили, объясняя, что у них на рабочем месте мало необходимых материалов, но, случалось, прямо говорили, что заказ убыточный. Мне же было интересно попробовать решить эти головоломки. Родители жили материально хорошо, так что их содержать не надо было, зарплаты отца хватало, вот я и брался за невыгодные заказы. Я вообще всю жизнь старался работать не за деньги, а из-за интереса. Зарплату получал, конечно, но старался не думать о ней. Забавно то, что при всём этом я перевыполнял план, поэтому зарплату получал не хуже других, правда, иногда приходилось и задержаться после окончания смены. Зато умение выполнить капризный заказ создавало мне хорошую репутацию.
К таким неудобным для наборщиков заказам относилась и вёрстка иллюстраций. Приходил, например, коллекционер Никифоров, приносил несколько иллюстраций, их надо было заверстать на формат той бумаги, на которой их будут печатать, расположив так, чтобы тираж можно было разрезать, каждую иллюстрацию отдельно, с ровными полями, а ведь иллюстрации разных размеров. К тому же некоторые иллюстрации были на прямоугольных подставках, другие же, награвированные на дереве, были круглые или овальные. Всё свободное место между ними надо было заполнить разнообразным металлическим пробельным материалом прямоугольных форм. Это, своего рода, мозаика. А, поскольку мозаика не из шрифта, по которому ценили учётчики, а как бы из пустоты, то оценивалась она всего лишь как двадцатиминутная работа.
Вот именно с таким заказом и подвёл однажды ко мне мастер Николая Алексеевича Никифорова. Был 1961 год. Я к этому времени, поработав учеником, был призван в армию, отслужил (опускаю описание моей службы сначала в армии, а затем на флоте, как не оказавшей большого влияния на моё творчество, хотя именно в это время начал публиковать свои карикатуры в газете политуправления Балтийского флота «Страж Балтики»). Вернулся, стал наборщиком, постоянно выполняя капризные заказы, приноровился даже и на них укладываться в эти нереальные расценки. Полученные навыки позволили мне на обычных заказах, которые мне тоже попадали, перевыполнять план, так что я считался молодым, но знающим своё дело наборщиком, с репутацией художника (горком комсомола привлёк меня к выпуску городской стенной газеты «Кипяток», где я был сначала художником, а потом и редактором). Вот благодаря такому неудобному заказу я и познакомился с Никифоровым.
Знал я этого известного в городе человека и до этого, просто не был лично знаком. Его знал весь город. Человек уж больно оригинальный. То при сильном морозе на конькобежных соревнованиях выйдет на старт в трусах. И не важно, каким по счёту он прибежал на финиш, все в шароварах и свитерах, только Никифоров в трусах и майке, поэтому все говорили не о победителе, а о нём. То в годы войны вернулся откуда-то на осле и ездил так, к великой радости детишек, по городу. Представьте, тридцатилетний мужчина, высокого роста, несколько нескладный, поджав ноги, с серьёзным видом восседает на осле, который, перебирая ногами, медленно движется по Тамбову. С этим зрелищем мог соперничать только местный почтальон Харитоша. Тогда, после известного фильма, где был такой персонаж, один из тамбовских почтальонов, человек в возрасте, ездил на велосипеде, положив ноги на руль, а встретившиеся по пути мальчишки, гурьбой подталкивая велосипед сзади, кричали вместе с ним радостно: «Харитоша, аккуратный почтальон!».
Никифоров к тому же был неизменным массовиком-затейником на всех городских мероприятиях, то устраивал в горсаду бег в мешках, то на вечерах отдыха организовывал забавные игры.




