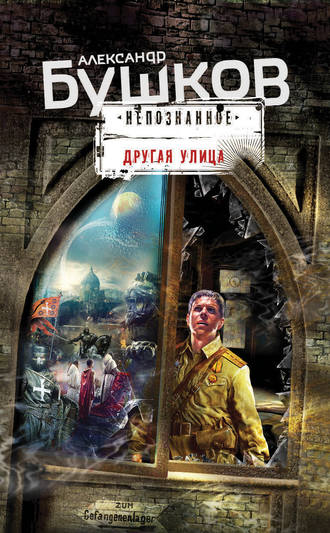
Александр Бушков
Другая улица
Поворачивается к нам и говорит спокойно:
– Только стрелять не вздумайте, воители… Обойдется. Не увидят они вас.
Во дворе пес залился. Короткая очередь – и тишина настала. И слышно уже, как сапоги грохочут на крыльце, дверь рванули… Переглянулись мы. Я говорю тихонько:
– Не раньше, чем я начну…
– Не вздумай, – говорит хозяин. – Не увидят они вас.
Ничегошеньки я не понимаю и даже не пытаюсь. Одно в голове крутится: «Ну зачем устраивать этот цирк с крошенкой зазря?» Вынул я гранату из-за пояса, свинтил с рукоятки колпачок, взялся за колечко на веревочке – теперь только дернуть… У немцев, правда, замедление взрыва дольше, чем у нас, ну да если что, выскочить не успеют, а я еще очередь пустить смогу… Окошко маленькое, вышибить его нетрудно, да вот протискиваться… Да и смысла никакого: они ж при первых выстрелах или гранатном разрыве моментально дом оцепят – два года воюют, должны соображать что к чему…
И вот стою я с гранатой в руке и чувствую себя чуточку странно: осознаю в себе неправильное спокойствие. Нервы натянуты, конечно, но все же нет полного ощущения, что вот сейчас все для меня на этом свете и кончится. Получается, будто я и вправду верю в эту дурацкую травку, верю, что все обойдется… А этот, бирюк косматый, стоит так уж спокойно, в себе уверенный – может, от него я спокойствием и заразился…
И вот оно! Вваливаются двое с карабинами наизготовку – это сейчас в кино у них у каждого автомат, а в жизни они с винтовками больше… Рукава закатаны, кителя расстегнуты до пупа – жарища неслабая стоит, – и по ухваткам видно, что эти мордовороты не вчера призваны, повидали кой-чего. Несуетливые такие, хваткие. И смотрят они исключительно на хозяина, а в нашу сторону и глазом не поведут, как будто нас нету! Ну вот нету тут нас, и точка!
Потом заходит третий, тоже пропыленный, небритый, с мотоциклетными очками на фуражке. Ага, офицер, обер-лейтенант – нас давненько начали учить разбираться в их знаках различия и всем таком прочем. Вряд ли старше меня, я так полагаю (мне в то лето двадцать восемь стукнуло). От пуговицы кителя у него красная ленточка – ага, это мы тоже знаем, Железный крест второй степени: повоевал, нибелунг…
А уж форсу в нем – мама родная! Прямой, словно аршин проглотил, подбородок задрал, руки за спину заложил этак барственно, оглядывается, словно к диким папуасам попал. Руки чешутся невероятно, так бы и шарахнул в упор, меж нами метра два, не больше.
Только – нельзя. Потому что и этот нас не видит. В упор, как говорится, не видит. А видит он, такое у меня предположение, самую обыкновенную стену, такую же, как остальные, обитую повыцветшими бумажными обоями. Только такой из его поведения и можно сделать вывод.
Что-то он коротко приказал – и солдаты пошли дом осматривать. Хозяин, сука гладкая, на сей раз картузик свой сдернул со всем почтением, и в спине малость прогнулся. Чует силушку, гнида, это ж ему не мы…
Обер-лейтенант усмотрел наконец фотографию, оживился чуточку, ткнул в нее стеком:
– Ду?
Это я с моим кое-каким знанием немецкого понимаю: он спросил «Ты?» Хозяин закивал и, к некоторому моему удивлению, отвечает на корявом немецком: «Так точно, господин офицер, я и есть, рядовой императорской армии, девятьсот шестнадцатый год…»
Обер-лейтенант свысока роняет:
– Мой отец в ту войну был полковником… Откуда знаешь немецкий?
– В плену у вас был, – отвечает хозяин. – Там выучился немного.
– Это хорошо, – говорит обер-лейтенант все так же свысока. – Слуга должен понимать язык господина… Русских солдат не прячешь?
Тут хозяин, сделавши презлую физиономию, объясняет, что в жизни бы не стал красных прятать – потому как они, отступая, все амбары под метелку выгребли, всю скотину и прочую живность увели, кур подобрали всех до единой и припасы из погреба забрали чуть ли не подчистую. Грамотно лепит, стервец, не переигрывает, сокрушается в меру, хоть сейчас на сцену выпускай…
Тут вернулись солдаты, доложились. Офицер их отослал, небрежно махнув рукой, говорит:
– Солдат ты и правда не прячешь. Это хорошо. Мы, немцы, умеем ценить лояльность. К тому же ты был в Германии, видел европейскую цивилизацию… которая теперь пришла сюда, в вашу варварскую страну, – и усмехается: – Как мне доложили, большевики полностью твои припасы не расхитили… Ты готов добровольно поделиться частью провианта с доблестной германской армией?
Наш космач этак умильненько:
– Господин офицер, да хоть все берите! Я с радостью! Спасибо за то, что от красных освободили!
– Я ценю твою лояльность, – кивнул ему немец небрежно. – Иди, покажешь повару, где у тебя провиант. Он отберет то, что не требует приготовления – задерживаться я не могу, у меня приказ… а интенданты отстали.
«Ну, – думаю, – коли уж карта поперла, так поперла. Останавливаться не будут, значит, скоро мы отсюда ноги унесем…» Оглянулся на своих – ребята оружие сжали так, что костяшки пальцев побелели, но ничего, спокойно, в общем, держатся, видно, что никто не сорвется. Лица у них не столько испуганные, сколько удивленные – да и у меня наверняка такая же физиономия. Ведь всего-то-навсего сушеная травка с кореньями и тряпочками по полу насыпана – а вот оно как… Не видят они нас.
Сколько времени прошло, не знаю. Как иногда бывает, показалось, что несколько часов, но вряд ли… Слышно, как возле хутора дружненько заработали моторы, как они уезжают, удаляется шум… а там и тишина настала. По спине у меня пот ручейком протек. Справился я с собой, завинтил колпачок у гранаты – уже ясно, что обошлось.
Вскоре и хозяин вернулся, в самом скверном расположении духа: надо полагать, пощипали его изрядно, их тут было не меньше роты…
– Уехали? – спросил я.
– Уехали, – махнул он рукой. – Чтоб им на ровном месте… Повар ихний, боров, соображает что к чему – все лучшее в мешки сгреб…
– Навидался ты, стало быть, европейской цивилизации, – сказал я.
– Навидался, – ответил он еще злее. – Еще тогда навидался, в плену. Это офицеры, их благородия, под честное слово в город шпацеровать ходили, театры ставили, посылки получали из России. А нас, серую скотинку, сплошь и рядом в телеги вместо лошадей запрягали… Не люблю я вас, уж не посетуй, а этих не люблю еще больше, с плена… Видел офицера? И ведь ничуть не изменились, твари, точно так же нос дерет и на тебя смотрит как на грязь под ногами…
Замолчали мы. Стоим. Надо бы его поблагодарить от всей души – не выдал, как-никак спас – но что-то у меня язык не поворачивается рассыпаться в благодарностях. Я ж прекрасно понимаю: не нас он спасал, а свое куркулье нажитое. Завяжись тут бой – не только хутор спалили бы, как пучок соломы, но и его, пожалуй, шлепнули бы за укрывательство. Так что побуждения у него были самые шкурные. И все равно – спрятал. Да как спрятал…
– Слушай, – говорю я ему и показываю на эту чертову крошенку. – Они что, стену видели?
– Ну, – буркнул он.
– А как это так?
– А вот так, – ворчит он в бороду. – Шли бы и вы отсюда, хлопцы? Не ровен час еще какие-нибудь нагрянут…
– Не беспокойся, – говорю я. – Нет у меня намерения тут рассиживаться, как фон-барон в балете. Пора и честь знать…
В общем, ушли мы. Собрал он нам на дорогу того-сего, такого же залежалого, самогону налил фляжку, насыпал табаку – ну, понятно, не по доброте душевной, а опять-таки после легонького нажима с моей стороны. Растолковал дорогу – и где-то так через полчасика мы уже шли лесом, подальше от Ружанского шляха. Долго молча шли. Потом только Галиб, комсомольский активист наш, говорит:
– Товарищ старшина, но ведь такого на свете не бывает! Колдовства, я имею в виду. А это, что тут думать, самое натуральное колдовство. Материализм…
Я только рукой махнул:
– Ты меня, кандидата в члены партии, не агитируй. Сам знаю, чем материализм отличается от мистики. Но ведь было? Не видели они нас, стену они видели… Вот тебе суровый факт.
А Фомичев проворчал:
– Оно бывает…
Вот такая история. Никогда больше я не был в тех местах, и никогда больше со мной не случалось никакой чертовщины. Только Фомичев прав: я и без него, с детства еще, слышал – бывает… Старики не врут. Разве что, они сами говорили, людей таких все меньше и меньше. Хотя наверняка и сейчас есть.
Но вот каково это было – стоять с немцами глаза в глаза, и они нас не видели – словами не объяснить…
Разговоры в дождь
Нет, со мной самим в жизни не приключалось никакой чертовщины, ничего сверхъестественного. Просто-напросто рассказал мне однажды один субъект интересную историю. Относиться к ней можно как угодно. За что купил, за то, как говорится, и продаю…
Было это уже после войны, в сорок седьмом. На Западной Украине, в захолустном, паршивом таком городишке. Я тогда служил в республиканском МГБ, и операция проходила, смело можно сказать, самая заурядная. Таких хватало и раньше, и потом. В том городишке как раз и помещалась явочная квартира ОУН, одна из многих в длинной цепочке, ведущей из Западной Германии, точнее, из американской оккупационной зоны. Тогда ведь не было еще ни ФРГ, ни ГДР, была Бизония, объединение американской и английской зон, а когда чуть позже к ним присоединилась и французская, это стало называться Тризония.
Квартиру эту наши в свое время выявили, хозяина аккуратно изъяли, а потом под убедительным предлогом поселили там его «родственника». Нет, не меня, вообще не нашего. Человеку со стороны те не доверились бы. Нужен был свой, и наши его нашли, поскребя по сусекам, так сказать. Мы к тому времени перевербовали не одного деятеля бандеровского подполья, так что определенный «кадровый резерв» у нас имелся. Те, кто курировал операцию, подыскали среди них старого знакомца прежнего хозяина, у «трезубов» считавшегося надежным и своим в доску: волчина был с приличным стажем, начинал еще в довоенной Польше, и никто не знал пока, что полгода назад он попался и был склонен к сотрудничеству. Ну, жить ему хотелось, как всем нам, грешным. А за ним по совокупности числилось столько веселого, что от стенки он мог спастись только добросовестным сотрудничеством с хорошими результатами. А поскольку я его с самого начала и вел, числился его опекуном, меня вместе с ним в ту дыру и захороводили. Для присмотра, естественно. Таких, сами понимаете, в одиночку опекать было бы слишком рискованно. А впрочем, и обитать с ним под одной крышей было не сахар – спать приходилось вполглаза и пистолет держать под рукой. С одной стороны, он нам уже сдал столько и стольких, что стань про это известно его бывшим соратникам, они бы его неделю резали на кусочки. А с другой стороны, никогда не известно заранее, что может прийти в голову такому вот деятелю, когда он окажется на вольном воздухе, да еще в тех местах, где знакомства и связи у него черт знает с каких времен. Вполне мог решиться дать мне по голове и пуститься в бега, рассчитывая, что как-нибудь обойдется. Бывали уже печальные прецеденты. Одним словом, жилось мне напряжно, словно устроился обитать на минном поле. Нельзя было поворачиваться к нему спиной лишний раз – и нельзя было ему показывать, что я ему не доверяю. Вся подобная работа как раз на том и строилась, чтобы создать у подопечного впечатление, будто я ему не надсмотрщик, а чуть ли не друг-приятель. Старая методика, еще с жандармских времен, между нами говоря. Нужно было, чтобы он себя чувствовал не работающим из-под палки батраком, а прямо-таки равноправным сподвижником, мать его за ногу. Соответственно, и обходиться с ним следовало, если тут применим такой оборот, со всей галантностью. И в то же время он, паскуда, не должен был полностью забывать, как обстоят дела в реальности, должен был помнить, что обязан заслужить себе жизнь и свободу стахановской работой, и я ему все же не дружок старый, а курирующий его офицер МГБ. Одним словом, виртуознейше нужно было вести игру. Полагаю, не у всякого профессионального актера получилось бы: актер в совершенно других условиях пребывает. Адски трудная была работа – и вести с ним партитуру без сучка без задоринки, и не упустить момент, если он все же решит меня пристукнуть и дать деру. Ну, я как-никак был не новичок… Скромно уточняя, те четыре ордена, что у меня к тому времени уже имелись, были получены не за умение тянуть ножку на параде или писать гладкие бумажки для начальства. Имелся кое-какой опыт… вот только не следовало забывать, что порой и люди поопытнее меня за случайную промашку платили жизнью, и хорошо, если одной своей. Короче говоря, та еще у меня была служба, да и времечко…
Ну ладно. Такие вот вводные. Обосновались мы на той квартире с Андрием… на самом деле никакой он не Андрий, но надо же его как-то называть. Ага, вот именно. Имечко со смыслом. В честь того Андрия, сыночка Тараса Бульбы.
Прожили мы там три дня – в обстановке вышеописанной игры. И жить предстояло еще с неделю – именно через неделю, по достоверным вроде бы данным, должен был заявиться курьер «центрального провода», как это у них называлось, – то есть главного командования. Следовало его принять со всем радушием, накормить-напоить и спать уложить, потом дать ему новые документы и отвезти в названное из-за кордона место. Скорее всего, там и была следующая явка, но это уже предстояло выяснять другим. А для этой явки нашими планировался ее демонстративный провал, о котором знал бы весь городок – с автоматчиками на грузовиках, осадой квартиры и перестрелкой, в которой нам обоим предстояло «погибнуть» и быть якобы в совершенно мертвом виде, прикрытыми брезентом, погруженными в те самые грузовики. Зачем это было нужно, мне никто не говорил – каждый знает ровно столько, сколько ему положено. На основании моего опыта полагаю, что дело могло быть в следующем: кто-то наверху хотел, «спалив» эту явку, посмотреть, где и как закордонные визитеры будут налаживать новые пути. Но это чисто мои личные предположения. Комбинации иногда крутились такие, что любой Дюма обзавидовался бы…
Погода тогда выдалась скверная: зарядил дождь на сутки и униматься вроде бы не собирался – и добро бы настоящий густой ливень. Нет, безостановочно моросила и моросила этакая мелкая водяная погань, дождя вроде бы и не видно, а выйдешь на улицу – уже через пару минут промочит до исподнего, и сам не заметишь, как это получилось. Мерзейшая была погодка…
Чем в такую погоду заняться, не имея никаких обязанностей, кроме как сидеть и ждать? Да разговорами, понятно. Правда, темы приходилось заводить с большим разбором: никак не стоило, например, вспоминать, кто из нас что делал в войну – поскольку были по разные стороны. И политики с идеологией не стоило касаться, дабы меж нами не возникало лишнего напряжения. Так что темы были самые отвлеченные. Вообще, общаться с ним было интересно: подопечный мой (подконвойный, так оно вернее) происходил из интеллигентной семьи (татусь у него был доктором), закончил неплохую гимназию, год успел проучиться в Львовском университете, прежде чем окончательно ушел в нелегалку, еще при поляках. Не от сохи парубок, и, если уж честно признаться, знаний у него в башке, пусть и повыветрившихся за военные годы, было побольше, чем у меня с моим училищем погранвойск и спецкурсами НКВД…
Зашел у нас разговор о женщинах. Без жеребятины, без смакования, кто кого когда и как. Скорее уж с философским оттенком: что такое вообще любовь, есть она или нет, до какого предела можно дойти, жертвуя чем-то ради женщины… И тому подобное.
Когда заговорили, бывают ли такие женщины, что остаются у тебя в сердце занозой на всю оставшуюся жизнь, Андрий мой вдруг помрачнел, помолчал, потом со странноватым выражением лица сообщил:
– Есть одна женщина, которую я до гроба не забуду…
– Что, – спросил я, – такая любовь была?
– Не было там ни капли любви, – сказал он вовсе уж мрачно. – Там другое… Только вы, пан капитан, все равно не поверите, хотя все именно так тогда и обстояло…
Скука, морось эта поганая…
– Ладно, – говорю я. – Расскажи. Может, и поверю.
Он и рассказал. Передаю, как помню…
«Обстановку в городе, пан капитан, вы сами должны прекрасно помнить, хотя и не были там тогда. Ваши серьезную оборону организовать и не пытались – уходили на восток, стараясь не задерживаться, даже когда по ним стреляли наши с чердаков и с крыш, большей частью вяло огрызались на ходу и катили дальше. И власти ваши, и милиция, и НКВД чуть ли не поголовно тоже двинули на восток. В центре города вы еще держались, а вот окраины были уже целиком наши…
Вы меня сами допрашивали, что я тогда там делал – но про некоторые детали не спрашивали вовсе, они вам были совершенно ни к чему. Вот теперь про детали… Под командой у меня – вы вряд ли уже и помните – было десять человек. Обосновались мы комфортно: в симпатичном таком, небольшом двухэтажном особнячке посреди маленького парка. При поляках владел им один весьма преуспевавший зубной врач, из евреев. Когда пришли ваши, он куда-то пропал, вполне может быть, что ваши комиссары, несмотря на его еврейство, отнеслись как к буржую со всеми вытекающими последствиями… У вас ведь это просто… ну хорошо, политики касаться не будем. Когда началась война, обитал там какой-то партийный чин, драпанувший в страшной спешке – начал было чемоданы собирать, да так и не собрал, улетучился. Так что особнячок нам достался целехоньким, со всей обстановкой. Мы даже портрет Сталина не стали снимать, только, уж простите, ради смеха проковыряли дырочку под усами и вставили цигарку: нехай покуривает да посматривает на победителей…
Чем занималась моя группа, вы имеете полное представление, этого и поднимать не стоит…
Так вот, вышли мы к полудню втроем, на обход терена[1] – мало ли кто интересный может попасться. У меня было указание попытаться, если получится, заполучить кого-то интересного: командира в чинах, штабные бумаги, машину-радиостанцию – сами понимаете, где радиостанция, там и коды с шифрами, и военные радисты, люди информированные. Немцы вот-вот должны были подойти к городу, с ними шел наш батальон, а значит, и беспека[2]. Вот нам и поручили дело посерьезнее, нежели палить с чердаков по вашим отступающим колоннам – с таким любой Гриць от сохи справится, дело нехитрое…
Вот только нельзя сказать, чтобы нам особенно везло. Вы, наверное, согласитесь с такой сентенцией: хорошо большим начальникам в штабах придумывать наполеоновские планы, и никто не задумывается, как их будут выполнять на местах малыми силами. Молчите, да по глазам видно, что согласны, сами должны были с этим сталкиваться…
Оказались у нас в подвале пара лейтенантов, военврач да морской командир, которого неведомо как занесло в наши сухопутные края. Неинтересная мелкая рыбешка. Крупная рыба уходила в составе таких колонн, на которые нам и всем десятком не стоило задираться. Ну, мало ли что, как оно оборачивается… Надежды я не терял.
Вышли мы из-за угла – и нате вам, шановне витаемо![3] Стоит посреди дороги ваш самоходик, маленький такой вездеход с поднятым капотом, возле него возится военный – вернее говоря, не столько возится, сколько чешет в затылке и таращится под капот. Сразу видно: сопливый новобранец. Этакий огарочек, шея цыплячья, видимо, еще и не брился, всего форса, что танки на петлицах… А в машине – женщина. Молодая, красивая. Номера военные – нас насчет этого вышколили…
Ну, это все же лучше, чем ничего. Если уж дамочке выделили для бегства военный автомобиль, то это неспроста. Вполне может в двух чемоданах на заднем сиденье оказаться что-то поинтереснее дамского бельишка…
Подошли мы. Красотка нас явно приняла за своих – не подумала, что времена настали такие, при которых средь бела дня расхаживать по улице с карабинами на плече могут же и другие. Встрепенулась, просияла:
– Товарищи…
Я ей вежливо улыбнулся и ответил со всей возможной гжечностью[4]:
– Товарищи, милая панна, на восток драпают. Те, кто жив пока…
До нее моментально дошло, помертвела. Шофер как стоял, так и стоит, только глаза вылупил. Так что взяли мы их без малейшего сопротивления и даже возни: панночку я вежливо взял под локоток и высадил из самохода, она от неожиданности и не дергалась нисколечко. Бравому танкисту Тарас сунул дуло карабина под нос – тот и обмер. Прихватили мы ее сумку, оба чемодана велели нести шоферу и через пару минут вернулись в нашу временную резиденцию.
С сопляком все определилось быстро: ну, водитель при штабе такого-то танкового полка, ну, полгода как призван. Указания у нас были четкие: предателей украинского народа из местных разрешается карать на месте, а вот военные и прочие понаехавшие москали – это уже держава. Таких предписано задерживать и передавать новой власти, которая придет со дня на день. Державное – державе. Мы не бандиты, во всем должен быть порядок. Так что сопляка, даже не давши разок по затылку, Дмитро увел в подвал к тем, кто уже там прохлаждался.
С панночкой я стал разбираться обстоятельно. Посадил в уголок под охраной Тараса, сам взялся за ее сумку, где и документов пачка, и фотографии.
Оказалось, не панночка – пани. Супруга товарища майора радецких[5] бронетанковых войск: вот они на фото, как два голубка, товарищ майор браво челюсть выпятил, смотрит соколом… а самим, очень возможно, в какой-нибудь канаве черви питаются. Хотя нет, вряд ли, надо полагать, он только что самолично женушку на вокзал отправлял, что-то не похожа красотка на скорбящую, разве что перепугана, ну да неудивительно.
Фамилию не помню, простая какая-то, из ваших распространенных, а звали ее Надеждой. Двадцать четыре года – самый расцвет, подметим мимоходом. Комсомольский билет, ага, диплом врачебный, справки… в городской больнице работала до последнего дня… Ворошиловский стрелок, надо же! Боевая дивчина. Замужем четыре года, детей, скорее всего, не нажили – ни детских документов, ни ребенка в пачке любительских фотографий. В чемоданах, Дмитро быстренько перетряхнул, ничего интересного, с военной точки зрения, одни женские вещички.
Поскучнел я, со всем этим бумажным ворохом ознакомившись.
Жена строевого майора, цивильный врач… Ничего интересного. Согласно тем же указаниям командирских жен точно так же полагается считать державой и передавать новой власти. В подвал ее к остальным – и вся недолга…
В подвал – дело нехитрое. Только оставил я себе напоследок ее фотографию на пляже – позу приняла завлекательную, бесовочка, руки за голову закинула, улыбается, явно майор фотографировал. Купальник на ней, я сразу определил, из модного варшавского конфекциона, здесь купленный. Мода, правда, двухлетней давности, но далее она не развивалась, потому что «великая польская держава» приказала долго жить, так и не распространившись от моря до моря, как они себе мечтали… Какое уж там нынче в Варшаве развитие модного конфекциона…
Посмотрел я на оригинал. Фигурка, грудки, ножки – все по высшему разряду. Смазливенькая, слов нет…
Ну а мне всего-то двадцать восемь, кровь играет. Со своей так в жизни не поступишь – но тут же советка, жена оккупанта, два года начищенными сапогами топтавшего украинскую землю… И подумал я: «Ни в каких указаниях и приказах не сказано, чтобы доставлять таких новой власти абсолютно нетронутыми. Все равно такая красоточка долго нетронутой не проходит, едва попадет в беспеку, там ее и разложат, знаю я тамошних ухарей…»
– Ну что же, пани Надия, – говорю я. – Присаживайтесь к столу, поговорим о жизни и о ее сложностях…
Она присела осторожненько напротив меня, спрашивает:
– Вы кто?
Я ей кратко объяснил, что мы не бандиты, а борцы за вольную Украину. Только она, как ни осторожничала, не удержалась от презрительной улыбочки: ну конечно, у нее идеологическая платформа другая, ничего удивительного. «Ладно, – думаю про себя, – нас называй как хочешь, это к делу отношения не имеет…»
Сам я ей улыбнулся исключительно вежливо.
– Ну что, – говорю, – Надийка, посмотрим, чему тебя муж научил за четыре года?
Надийка с искренним недоумением вопрошает:
– Вы о чем?
Я ей и объяснил простыми понятными словами, без единой непристойности, но предельно доходчиво. Как я и ожидал, красотка так и вскинулась: «Да как вы смеете, да я мужа люблю, лучше убейте, да ни за что…» Ну, вполне предсказуемо. От идеологии и не зависит, пожалуй что. Я же не такой циник, чтобы считать, будто на этом свете верных жен нет вовсе. Имеются в немалом количестве. Только не во всякий ситуации верность и сохранишь…
– Получается вовсе уж прекрасно, – говорю я. – Не с распутной девкой придется дело иметь, а с приличной женщиной, одного мужа меж ножек и допускавшей…
Она со стула так и взвилась, только Тарас не зря стоял у нее за спиной – положил лапы на плечи и успокоил на стуле, будто гвоздь в доску вбил. Не скажешь, чтобы верзила, но кряжистый и силы немалой. Убедительный человечина.
Дмитро просунулся вперед из-за моего плеча и попробовал было ее на голос взять – но я его утихомирил одним взглядом. Уж этого-то сопляка я давно отмуштровал со всем усердием: зелен еще – поперед батьки в пекло. Девятнадцать годочков. Всех его боевых подвигов во славу независимой Украины только и есть, что пристрелил вчера на улице старого жида, да и то в спину. Пан Володыевский, тоже мне…
– Давай, Надийка, подумаем рассудительно, – говорю я ей. – Ну куда тебе против нас трех, неслабых? Все равно не отобьешься, положат тебя, держать будут. Только это выйдет грубо, некрасиво, и синяк под глаз заработаешь, и порвем на тебе все… Давай обставим все культурно: сама разденешься, сама ляжешь, и обхождение с тобой будет без малейшей грубости.
Ах, как она меня послала нежными губками! Кто бы мог подумать, что слова такие знает. Даже парочку польских отпустила – уж им-то могла только здесь научиться.
– Ах, Надия, какая ты прелесть… – сказал я искренне. – Вот такая вот, красная от злости, лающаяся, как драгун.
И кивнул Тарасу. Тот понял, достал свой ножик, не раз побывавший в деле, приложил лезвие ей к нежной щечке и заговорил – упаси боже, не повышая голоса, без единого грубого слова, спокойно так, рассудительно, будто читал вслух неграмотным холопам инструкцию по обращению с механической жаткой и хотел, чтобы разобрались и запомнили с первого раза…
Ох, убедительный был человечина… Постарше меня лет на пятнадцать, в Движении с двадцать пятого года. Досье на него в дефензиве в кирпич толщиной, и в жандармерии был пытан, и из-под конвоя бежал, и смертный приговор на нем заочный висел до самого конца польской государственности. И пострелял он всякой сволочи столько, что устанешь считать. По совести, быть бы ему командиром вместо меня, хотя и я за пять лет кое-чем отметился. Но такова уж его натура, что в командиры он не стремился никогда. Бывают такие люди: исправный солдат, отличный исполнитель, вполне довольный своим положением и не стремящийся выйти хотя бы в ефрейторы. Крестьянская натура. Хотя он, строго говоря, и не крестьянин вовсе – просто из закарпатской глуши, чабаном был, лес сплавлял. Серьезные ремесла, кстати, не для слабых…
Ну и вот он, человек поживший, прекрасно знал, на какой слабинке играть. Как поступить с мужчиной в подобной ситуации, вы, пан капитан, наверняка знаете досконально. А с женщинами не приходилось? Нет… Сделайте зарубочку на память, мало ли как обернется. Иные женщины больше боятся потерять красоту, чем жизнь и честь. Инстинкт такой, что ли…
Вот Тарас ей, прикладывая к личику холодный ножичек, обстоятельно и растолковал, что он с ней этим ножичком проделает, если будет барахтаться. Жива останется, проживет, смотришь, еще сто лет – но от нее не только мужчины, лошади будут шарахаться.
И Надийку нашу проняло. Согласилась быть паинькой. Выставила одно условие: чтобы к ней заходили по одному. Что меня вполне устраивало, да и остальных, думаю, тоже: мы же не какие-нибудь варшавские криминальные гембы[6], чтобы из этого публичное зрелище устраивать…
В общем, наступил покой и согласие. Выставил я коньяк – ваш, кстати, отличный, армянский, мы в магазине реквизировали пару ящиков ввиду прекращения советской торговли и грядущей смены власти. Выпили мы по доброму стаканчику, налили Надийке – и она не отказалась, правда, по второму не стала.
Отвел я ее в спальню – бывшую докторскую, потом красного чина, а теперь мою, пригласил располагаться и вернулся к своим. Сбежать она оттуда не могла, на всех окнах первого этажа решетки прочные (очень опасался воров пан доктор, небедно жил). А если вздумает все же проявить гонор до конца, скрутить из разодранных простыней веревку да повеситься – не будет у нее столько времени, такие дела вмиг не делаются…
Мне вообще-то, как командиру, полагалось бы первому попробовать нашу красоточку – но Тарас, глядя в сторону, пробурчал:
– Друже командир, надо бы по справедливости… Жребием…
Будь это Дмитро, я бы его заткнул моментально. Но это ж Тарас. Фигура. Вот с ним портить отношения мне решительно не с руки. А обиду бы он затаил, точно. Потому-то по части прекрасного пола был не промах.
Разыграли быстренько и не мудрствуя – на спичках. И вышло так, что первым идти Дмитро, вторым мне, ну а Тарасу, соответственно, третьим. Я ничего не сказал, но про себя посмеялся: вот такое твое невезение, любитель справедливости. Не вылез бы со своим жребием, я бы тебя после себя пустил, вторым, а так настоишься в хвосте… Сопляк наш, предположим, наверняка отвалится быстро, много ли ему нужно, но я-то настроен с красавицей побаловать долго и обстоятельно… Тарас, видно, приуныл, но что тут скажешь – и жребий тянули честно, и предложил сам…
Выдал я Дмитро известный резиновый аптечный предмет и настрого приказал без него не работать. Мол, мало ли что от этой советки подцепить можно… Дурень даже растрогался от такой заботы командира о его юном здоровье – но я-то, признаться, о своем удобстве заботился, не хотелось мне, чтобы сопляк напаскудил ей там. Я-то сам намеревался без всяких аптечных штучек, чтоб лучше ее чувствовать, красоточку…
Пошел он в спальню. Смотреть – смех и грех: держится орлом, а у самого поджилки дрожат. Может, вообще еще женщину не пробовал, орел наш боевой.
Налили мы с Тарасом еще по стаканчику, опрокинули. Тарас усмехается:
– Не ерзай, друже командир, хлопчик, чую, там не загостится. От одного вида, глядишь, фонтан пустит.
– Да я и не ерзаю, – отвечаю я. – Я и сам так думаю…
И точно. Не загостился…
Грохнула вдруг дверь – и вылетает наш доблестный юнец из спальни как бомба. Едва не полетел кубарем, но удержался на ногах. Вид у него – умора: штаны с трусами до пола спущены, ножонки тонкие, незагорелые… Потом присмотрелся я – что-то не то: глаза у него навыкат, белый, как полотно, трясется весь и даже точно зубами постукивает:
– Дядьку Андрий… Дядьку Андрий…
«Что за черт, – думаю. – Неужели успела повеситься? Да нет, он бы тогда сразу выскочил, а он там пробыл столько, что мы с Тарасом успели не спеша и по стаканчику опрокинуть, и по сигаретке выкурить…»






