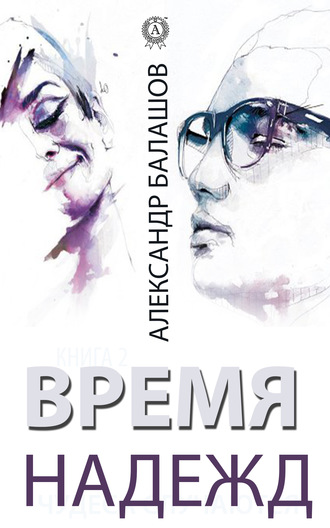
Александр Балашов
Время надежд
«Наш путь всего лишь одно мгновение.
Живите сейчас, потом просто не будет времени»
А.П.Чехов
Глава1
НАЧАЛО НАЧАЛ
Мой дед, Павел Фёдорович Земляков, утверждал, что не растёт лес без подлеска. «Подлеском» он называл детей своих и внуков, с которыми никогда не сюсюкал, а говорил, как равный с равными. Дед Паша считал, что уму-разуму дитя нужно учить с раннего детства. Когда ребёнок поперёк лавки лежит. Когда вдоль ляжет, то воспитывать поздно будет: придётся перевоспитывать.
– Ну, ты скажешь, дед, как из пушки в лужу стрельнешь! – качала головой всегда спорившая с ним бабушка. – Может, его с пелёнок – и сразу в школу запихивать?
– Ты, Прасковья, говори, да не заговаривайся, – улыбался в пышные «будёновские» усы дед. – Именно с пелёнок. Как запоёт, так, значит, и пришло время учить. Когда дитя своей младенческой песней мир известит: это я в мир честной пришёл, здрасте вам – так и начинай его воспитывать. Упустишь время, сам потом и наплачешься.
Я, конечно, не помню того торжественного момента, когда впервые «запел» – так, говорят, мой плач был похож на минорную песню с переходами в призывный мажор, ежели обо мне забывали родители. Зато мама и папа зафиксировали в своей памяти этот факт с документальной точностью – бессонные ночи, – когда больше всего на свете спать хочется, а тебе не дают обстоятельства, – для всех родителей и во все времена незабываемы.
Много позже, когда я сам стал отцом, мама рассказала мне, как она, беременная мною, ехала с отцом в воинском эшелоне из Кёнигсберга до нового места дислоцирования части. В вагоне для офицерского состава у неё неожиданно начались схватки. Волею судьбы это произошло в Смоленске, где я и увидел свет в ещё не восстановленном до конца смоленском роддоме, где из-за отсутствия стёкол некоторые окна были завешаны солдатскими одеялами. Но люди были полны надежд. На лучшую жизнь. На счастье в мире. И их надежды были понятны – мой день рождения от Дня победы отделяли уже три мирных года. Страна возрождалась из пепла вместе с надеждой.
Считаю, что мне несказанно повезло: родись я на день позже – попал бы на день рождения Ленина; на день раньше – факт моего появления на свет Божий совпал бы с днём рождения Гитлера, а это, согласитесь, было бы нежелательным совпадением. Я нашёл свободный от злых гениев денёк – и, пользуясь счастливым случаем, явившись в мир людей, потому, наверное, не заплакал, а «запел». Думается, запел от счастья. (От горя ведь не поют!). Выходит, что я родился именно в свой день. И этим фактом я объясняю все тропинки, дорожки и повороты судьбы, которая, как известно, играет человеком.
– Ты не плакал, как обычно плачут младенцы, – рассказывала мне мама, когда я созрел до понимания её воспоминаний. – Ты – пел. Пел и днём, а особенно ночь. Так пронзительно пел, что холостые лейтенанты, жившие по соседству, так стучали в стенку, что сыпалась штукатурка.
– Папа твой, – продолжала она, – не выдерживал этих ночных концертов, хватался за кобуру с пистолетом – я уж боялась, не застрелился бы! – и с больной головой убегал ночевать в караулку части.
Позже, когда я уже был, так сказать, в своём уме и твёрдой памяти, не раз ещё расспрашивал родителей, где, как и почему это произошло. Меня и в детстве, и в юности, и в отрочестве всегда интересовал вопрос: почему это петь я начал раньше, чем говорить? И о чём это говорит, если вообще говорит о чём-то.
Не всем по душе приходилась моя любознательность: отмахивались от меня, как от назойливой мухи – какая, мол, тебе разница? Одни в два года надоедают родителям своим плачем, ты – своими пронзительными песнями без слов. И это, по большому счёту, ни о чём не говорит. И успокойся, успокойся – вундеркиндом ты не был. Тебя никто из родни в цирке показывать не собирался. В семьях вундеркиндов, мол, всё наоборот – в детстве у них «суперские» таланты открывают именно родители и, раз открыв, без устали демонстрируют их публике. Так в цирке показывают дрессированного медведя, ездящего на велосипеде. А надежд на своего вундеркинда тщеславные родители возлагают вагон и маленькую тележку. И забывают золотые слова, что надежды только юношей питают, а свою судьбу даже на кривой оглобле, как ни пыхти и не раздувай щёки, не объедешь. Талант нужно беречь и терпеливо ждать его полного созревания. Сорвав плод зелёным изнутри, можно любоваться им в вазе, но, только надкусишь его – и скривишься от кислоты и горечи рухнувшей надежды.
Впрочем, я к судьбе не в претензии. С философией толстовского непротивленца всегда принимал все её и превратности и тем более – радости. Чего было больше: потерь или приобретений? Радостей или горестей? В этом плане неумолим один незыблемый Закон, который я называю «балансом Господа Бога»: вслед за невесёлым, драматическим или, не приведи Господь, трагическим, событием в жизни, небесная канцелярия всегда меняла негативный кадр в ленте моей жизни на более или менее позитивный. В детстве, будучи наказанный за невинные шалости и стоя в углу, я понимал: это не вечно. Постою, понадуваю губы, пошмыгаю носом, но ведь потом, завтра, через неделю или попозже, будет и на моей улице праздник…
И он, в конце концов, всё-таки приходил – праздник души. Ненадолго. И это хорошо, что ненадолго. В буднях человек учится. И будни – учат. Будни и бьют, и закаляют характер. Будни от слова «будь». Будь им, человеком среди людей. И скажи спасибо будням своей жизни. Недаром же за одного битого двух небитых дают, как издревле говорили на Руси. А долгие праздники, согласитесь, быстро надоедают.
Одинаково вредно и даже опасно для человека, когда происходит разбалансировка баланса небес обетованных. Что касается моей жизненной ленты, то я благодарен судьбе – за всё: и хорошее, и плохое. Иначе бы не было моих книг, моих героев, пришедших на страницы из моей жизни. Да я и сам был бы не таким: лучше или хуже – вопрос другой. Но точно – не таким. Любого человека, грешного и святого одновременно, без обретений и потерь не бывает. А уж писателя – и подавно не может быть без горечи утрат, светлой и даже чёрной грусти, твёрдой веры и вечных сомнений. Живой человек – это и мысли, в том числе и греховные, и сложный букет чувств, в который чего только не напихано полем, пока ты его переходишь, начиная от сомнений после крушения иллюзий, радости побед и до горечи поражений.
Но главное, как я понял только сейчас, когда, наконец, созрел для повести о прекрасной эпохе, не бывает писателя без надежды на лучшее.
«Завтра будет лучше, чем вчера», – пелось в песне моей юности. Даже если это иллюзия, то эта святая ложь во спасение, которая продлевает наши земные дни. Более того, скажу о том, во что уверовал, пройдя через все жизненные испытания: наша надежда не умирает последней. Она вообще не умирает, так как живёт не в извилинах нашего мозга, а в душе человека. Душа – бессмертна. Кто с этим решится поспорить? А раз так, то и надежда бессмертна, каждый раз возрождаясь в генах младенца, родившегося в любую эпоху и в любой стране мира.
Это будет первая и самая позитивная запись – начало всех начал – полученная, так сказать, в качестве первоначального духовного капитала и записанная где-то в эфирном пространстве. Так на девственно-белом листе бумаге писатель пишет первую фразу, от которой «вытанцовывается» всё дальнейшее повествование. Главное – сберечь, не стереть за ненадобностью (ведь надежду не продать, не обменять на смартфон или ключ от квартиры, где деньги лежат) этот спасительный ген надежды, дарованный нам Им свыше вместе жизнью.
Глава 2
КАК СТАНОВЯТСЯ ПОЛИГЛОТАМИ
Это я, наверное, впитал в себя, в своё подсознание, которое возраста не имеет, вместе с материнским, а потом и козьим, коровьим молоком моих родных бабушек. Уже тогда меня мучил сакраментальный вопрос: откуда у меня взялась привычка петь вместо того, чтобы плакать или говорить, как все нормальные дети? Что это? Дар или проклятие? Благо или болезнь? Этими вопросами я мучил своих домочадцев. И все они дружно отмахивались от меня, как от назойливой мухи, которая по утрам не даёт досмотреть сон, сулящий прибыль и благоденствие.
И только один мой очень далёкий родственник, с которым меня свела судьба на пятом году жизни, одобрял мои поиски «момента истины». Звал я этого далёкого родственника по-родственному – «дядя Гриша». Приходится ли такой дядя «дядей» я, честно говоря, не знаю и до сего дня.
Григорий Богданович Носенко жил в Макеевке, на Донбассе. И был женат на старшей маминой сестре – на тёте Ире. Как тётя Ира попала на Донбасс, для меня это загадка. Пути Господни неисповедимы. Бабушка Прасковья, мама моей мамы, тёти Иры, тёти Кати и тёти Ани, не шибко любила дядю Гришу, называя его «вредным хохлом» и «копчёным». (Забегая вперёд, скажу: к этому «вредному» и «копчёному» на временное проживание сперва попали я и мама, а после смерти деда Паши – и бабушка Прасковья. Судьбу, как я уже говорил выше, даже на кривой оглобле не объедешь).
– Дядя Гриша, а почему я запел раньше, чем заговорил? – пытал я Копчёного. – Мой ум не даёт мне ответа.
Дядя Гриша, худой, костистый, загорелый, будто действительно закопченный в коптильне родственник, пожёвывая обвислый ус, не упускал случая воспитать меня на свой, «хохляцкий лад».
– Свий разум май, а людей питай, – говорил он мне, гладя «против шёрстки», то есть ероша шершавой шоферской ладонью мои волосы. – Так слово до слова, Сашко, складёться твоя мова. Жаль, шо не радяньска, а москальска мова. Шо будешь робить: яки мати та батько – таке и дитятко. Нечёго, ничёго… Ты у моей хате, я тя нашей мове обучу. Гарно спевати и балакать станешь, хлопчик.
Без переводчика, роль которого иногда выполняла моя мама, я редко понимал Копчёного. Тогда я считал, что Копчёный специально коверкает русский язык, насмехаясь над нами.
Я злился, когда он говорил: «Тащи на стол писюнець!». Что за «писюнець»? Чей «писюнець»? Оказывалось, что писюнець – это по-украински чайник. А когда садились за стол и не хватало кому-то стула, то Копчёный орал на тётю Иру: «Иде ишо подсричник?!» «Подсричником» он называл стул. Привезёт, бывало, зерно для кур и поросят, начнёт из мешка отсыпать, не осиливая поднять трёхпудовую тару, и кричит на весь двор почти матюком: «Иде, черти, педрахуй?», – ведро, значит. Разве в нормальном языке обыкновенное ведро будет так грязно называться? Мама, переводя непонятные мне слова, частенько краснела и прыскала в кулак смущённым смехом.
И всё-то в его речи, казалось мне, было не по-людски, как-то… Лук у него был не лук, а «цебуля». Моя любимая собака Джек, с которой я только и сдружился в его дворе, – «цюцик». Сам Грицко, вечно небритый и далеко не богатырь, меня за худобу «чахликом невмерущим» обзывал. Я спросил маму: «Что такое – «чахлик невмерущий?». Оказалось, так на украинском языке называется наш Кощей Бессмертный.
Мне казалось странным, что и меня, и маму с отцом дядя Гриша называл «москалями». «Какие же мы «москали»? – думал я. – «Москали» те, кто в Москве живёт. А мы к нему из Курской области вынуждены были приехать. Значит, мы – куряне».
Об этом я как-то сказал Копчёному. Дядя Гриша осклабился и, по привычке жуя кончик жидковатого уса, усмехнулся:
– Во-во, курвяне вы и исти.
В его «богатом» дворе я ходил от сарая с кабанчиками до старых пыльных вишен у забора, который отделял улицу (24-ю линию, как называлась та макеевская улица, на которой стоял дом справного хозяина дядя Гриши Носенко) бродил как неприкаянный. Походив без дела туда-сюда, а потом отсюда – туда, я заглядывал в будку своего единственного друга – потомственного «дворянина» (как шутила мама, называя породу дворняги) – доброго и приветливого Джека.
– Дай лапу, Джек! – просил я.
Пёс смотрел на меня жёлтыми глазами, громко и сладко зевал, высунув длинный красный язык, и снисходительно протягивал мне свою мохнатую лапу. И я был рад подержать в своей ладони хотя бы её, когтистую, но живую и тёплую.
Джек был моим единственным другом, которому я изливал душу и ради которого, унимая дрожь в коленках, шёл на преступление – тырил из большой зелёной тёткиной кастрюли свиные или говяжьи кости. Страшно было даже подумать, что сотворил бы со мной добрый дядя Гриша, застукай он меня на месте преступления… Копчёный страсть как любил обгладывать вываренные кости после того, как заканчивал чавкать борщом. Обглодав мосол до сахарной белизны, он задирал клеёнку и принимался неистово колотить им по столу, выбивая из кости спрятавшиеся в её глубине мозги. При каждом ударе мозговой кости об стол погребально звенела посуда, которую под стук и грюк тётя Ира, как заправская цирковая эквилибристка, разметала по кухонным полкам.
М0зги, – делая ударение на первом слоге, – обнажал свою кукурузную улыбку Копчёный. – Це гарно! Жалко, не дуже богато их в костях. И ховаются мозги глыбоко, шо хучь кувалдой их вышибай!
После дяди Гриши, понимал я, Джеку глодать уже было нечего. Однако он, зная сволочной характер хозяина, любившего после окончательной обработки костей, метко швырять их в собачью будку, осмотрительно забивался в глубину своего пёсьего дома, поглядывая оттуда на дядю Гришу горящими преданными глазами.
– Шо, бисов сын, – рычал на Джека Копчёный, – у три горла жрёшь, а проку от тя нема! Сдохни, порадуй нас, милай!
С Джеком я делился всем, чем потчевала меня мамина сестра, Ирина Павловна, женщина с настороженным взглядом серых испуганных глаз. Мне казалось, что больше всего в жизни, она боялась попасть под горячую руку своего доброго муженька. А руку у Копчёного была костлявой, цепкой. Моё ухо не раз горело огнём после его воспитательных уроков.
Молча размазывая непрошенные слёзы кулаком, я забирался под крыльцо, где в летнюю жару спасался от мух и зноя мой единственный в новой жизни друг Джек, и уже тут, вдали от чужих глаз, обняв за шерстяную шею своего верного товарища, давал волю не вылившимся слезам.
Мать всё понимала, жалела меня, вздыхала и терпела.
– Не грусти, сынок, – гладила меня она по непослушным волосам. – Год пролетит незаметно, вернётся с Чукотки отец – и мы уедем… Куда-нибудь.
– Через год! – убитым голосом восклицал я. – Так я за этот год русский язык забуду. Он меня на свою мову переучивает. Говорит, хватит трындеть на своём поганом москальском, учить, говорит, буду, як правильно балакать. И всё за ухо, за ухо своими пальцами, как крючками, цепляет!.. Больно же! У-у, учитель-мучитель…
– Ничего, ничего, – успокаивала меня мама. – Будешь знать два языка. Это не вредно. Даже полезно.
– Зачем мне два? Мне и одного хватит! Нашенского.
– Будешь потом этим, как он называется?… Полиглотом, – шутила мама.
– А вот обзываться не надо, – обижался я. – Не хочу быть живоглотом!
Живоглотом тогда в моих глазах был дядя Гриша, у которого, несмотря на врождённую худобу, был просто зверский аппетит. Он не ел, как это делали мои любимые бабушки и дедушки в деревне – не торопясь, с внутренней благодарностью за хлеб насущный и достоинством труженика, а не нахлебника поднося ложку ко рту. Он, широко раскрывая рот, глотал свой любимый борщ «с бураком да на поджаренном сале», заедая его краюхой хлеба, густо натёртым вонючим чесноком. Ну чисто живоглот, а не «наш добрый и хороший дядя Гриша», как его называла его жена, моя родная тётя – тетя Ира.
Как говорила бабушка Прасковья, сладок мёд, да не по две ж ложки в рот.
Глава 3
СЛАДКА ЯГОДКА, ДА РАСПЛАТА ГОРЬКА
Но настоящим испытанием для меня был ужин в доме Копчёного.
Григорий Богданович заезжал во двор своего большого дома прямо на своём хлебном фургоне и первым делом выгружал «остаток» или «излишек» для своих обожаемых кабанчиков. Тётя Ира уже стояла наизготовку с чистым рушником у рукомойника. Дядя Гриша, не снимая грязной линялой майки, энергично намыливал коричневую от загара жилистую шею, фыркая и брызгаясь водой, спрашивал:
– Як у вас справы, человики?
Потом садился за стол, на котором его уже ждали перья зелёного лука, головка чеснока, солонка, до краёв наполненная крупной солью. Из кастрюли с торчавшим в ней половником шёл пар от незаменимого на завтрак и ужин борща с пережаренным луком и салом. Григорий Богданович был худ, жилист и всегда страшно голоден. Аппетит его меня пугал и удивлял одновременно: на ужин он один съедал почти всю кастрюлю, но, как говорила мама, не в коня был корм.
Дядя Гриша очень гордился, что дом его – полная чаша. Хвастался большим «уловом», если удавалось украсть пять, а то и шесть буханок хлеба, который он на своём фургоне с надписью «Хлеб» развозил по торговым точкам Макеевки.
Наверное, в своей прошлой жизни Григорий Богданович был «викладачом» – учителем то есть. И в новой, шоферской жизни, ему как воздух был мальчик для битья его «ридной мовой».
– Шоб рибу, Сашко, исти, – учил Копчёный меня, – треба в воду лизти.
Тётя Ира старалась как могла подбодрить меня, подневольного ученика её мужа. Она, слушая наставления и поучения своего благоверного, жалела меня и, как-то жалковато улыбаясь, приговаривала:
– Ты тоже кушай и дядю слушай! Дядя Гриша дурному не научит, дядя Гриша добрый и хороший.
Копчёный кивал, жевал и учил меня, не отрываясь от пол литровой кружки с вишнёвкой:
– Треба, Сашко, нахилитися, шоб з криницы води напитися.
Ужин превращался в истязание моего слухового аппарата. Я бросал умоляющие взгляды на маму, в которых читалось: «Спаси меня от уроков Копчёного, я не понимаю, что он говорит!». Но мать под столом только легонько надавливала своей босоножкой на мой сандалий и извинительно улыбалась хозяину дома:
– Будто шило в одном месте у этого ребёнка…Ешь, непоседа!.. И компот вишнёвый пей. Какой вкусный компот тётя Ира сварила – лучше магазинного ситро.
Я обречённо вздыхал, безрадостно глядя на стакан со сладкой бордовой жидкостью и аппетитную сдобную булку. Но кусок почему-то не лез в горло.
…У тёти Иры и её мужа Копчёного мы с мамой жили в трудное для нас время, когда отца фронтовика-смершевца, оставленного после войны в кадрах военной контрразведки, перевели служить на Чукотку. К тому времени я уже ощущал себя вполне сложившейся личностью, поэтому активно избавлялся от пробелов в памяти.
– Дядя Гриша, – вежливо надоедал я Копчёному, когда тот из своего фургона выгружал «остаток» – украденные им с хлебозавода буханки. – Уважаемый дядя Гриша, вы не знаете, где и когда я запел? Бабушка Наташа говорит, что в Андросово. На Николу летнего…
– Шо? – не понял Носенко. – Иде спевати начал ты некстати? Та, шоб я сдох, не брешеть Натаха. У своих курских бабок ты и спевать начал, на ридни земли.
И, пожёвывая свой висячий ус, подмигивал мне по-разбойничьи:
– Твои курские бабки моей жинке Ирке об том говорили-балакали, а послухали, як ты спеваешь – та и заплакали.
И дядя Гриша смеялся своей, как ему казалось, смешной шутке. А смеялся он так, будто подавился куском сала с чесноком. И казалось, что он не смеялся, а икал, вытирая костлявым кулаком слезившиеся глаза и ловя воздух провалом широко распахнутого щербатого рта:
– Ик-ха, ик-ха, ик-ха!
Позже, увидев и услышав в Московском зоопарке худого и грязного ишачка, я долго вспоминал: а ведь где-то я же уже слышал этот ослиный крик, похожий на смех икающего человека?
– Ща, Сашко, заморю червячка, – говорил Насенко, – а ты спевати станешь. «Ты ж мине пидманула» – знаешь?
Эти макеевские концерты по заявкам дяди Гриши, были мне не в радость. Видно, правы те, кто утверждает, что не от радости птичка в клетке поёт. Чтобы избавиться от своего надоедливого фаната, я частенько прикидывался больным.
– Ангина, – хрипел и кашлял я, – это очень опасная болезнь.
Копчёный недобро смеялся:
– У твоей брехни, хлопчик, ноженьки коротки… Ик-ха, ик-ха!
Дядя Гриша сам всегда лечился самогонкой, но не брезговал и вишнёвкой.
– Ай, лихо! Зараз врятувати будимо. Я ликар вага.
Зря я, наверное, притворился хворым, потому как Носенко достал бутыль с вишнёвой настойкой, вывалил в миску «пьяных ягод» и суну мне в руку большую ложку.
– Исти надо, горло врятувать!
Я попробовал одну вишенку, другую… Вроде ничего, вполне себе ничего… Даже вкусно, когда распробуешь.
И съел всю большую миску «пьяных ягод». А через пять минут всё завертелось в голове, и я, попытавшись встать, рухнул в летней кухне под лавку.
Откуда-то, будто из-за вишнёвых облаков, плывущих в моём изменённом сознании, до ушей долетал раскатисто-икающий смех доброго дяди Гриши.
Вбежавшая в кухню мать, взглянув на бутыль с вишнёвкой, быстро сообразила, в чём дело и принялась спасать мою жизнь, засовывая мне свои пальцы в рот, чтобы вызвать рвоту.
– Я умираю, мама? – спросил я, когда меня вырвало.
– Что ты, сыночек! Что ты…
А дядя Гриша всё смеялся, икая уже по-настоящему:
– Та не вмреть от самогонной вышни!.. Добре харч, Верка!
Мама бросила на дядю Гришу выразительный взгляд, в котором было всё, что она думала о нём в тот момент. Но сказать вслух эти слова всё-таки не решилась – он приютил нас в своём доме, и мы должны были быть благодарны ему за это.
– Кому добре, а кому не очень, Григорий Богданович, – сказала мать.
– Он отравил меня? – спросил я маму.
Дядя Гриша снова заикал своим странным смехом.
Я не прикидывался больным. Мне действительно было так плохо, что я подумал, что дядя Гриша меня отравил из-за того, что я отказался петь по его просьбе.
Мама суетилась, что-то выговаривая родственнику, избегая бранных слов, а Григорий Богданович молча запивал вишнёвкой её попрёки. Загорелое лицо его наливалось краской. Он пил самогонку, по-утиному крякал после каждого стакана и только посмеивался:
– Ик-ха, ик-ха!
А мне казалось, что под столом, за которым сидел Копчёный, спрятался старый и злой осёл. И очень хотелось постучать ему по спине, чтобы ишак с оскаленными жёлтыми зубами, похожими на ядрёные зёрна кукурузы, перестал, наконец, икать.
* * *
Я не принимал и не понимал шуток Копчёного. Но одно его выражение, понятное мною без маминого перевода, запало в душу на всю жизнь: «Ридна земля и в жмени мила». Правда, тогда, в детстве, этот образ был умозрителен и оттого конкретен: просто зажатая в кулачке земля с того места, где твой род, твоя родня. И хотя известно, что слово не воробей, вылетит – не поймаешь, это выражение я поймал цепкой детской памятью и накрепко запечатал в своей голове.
Хорошо и понятно тогда сказал макеевский дядя Гриша, уроженец села Бебехи, что на Львовщине. Не держу в своей памяти на него зла. Он, наверное, и впрямь, был хорошим и добрым. Просто некому ему было сказать про это. Про его доброе сердце, любящее свою землю, свой язык, свои обвислые усы, свою родню, свою еду, самогонку свою, настоянную на крупных спелых вишнях… А сам дядя Гриша этого не знал. И по незнанию злился на нас с мамой, курских «москалей», которые в те годы в Москве даже проездом не были.
Помню и любимое присловье моего родного деда по материнской линии – Павла Фёдоровича Землякова. Дед Паша не уставал повторять: «Свои сухари лучше чужих пирогов». Пока жил то в Андросово, то на Мартовском посёлке у своих прародителей, – дедушек и бабушек, – не доходило: как это пироги могут быть лучше чёрных сухарей? Тут и дураку понятно, что пироги вкуснее. Впервые я понял их подстрочный смысл именно в доме справного хозяина Григория Богдановича Носенко.
Без зла и обиды в сердце пишу я о нём сегодня. Дай Бог живым долгих и счастливых дней. А уже ушедшей родне – царствия небесного. Простите, коль кого упомяну несладким словом. Но так уж меня учили мои литературные наставники: не тот писатель, кто мёдом мажет, а тот, кто правду скажет. Жизнь несколько подправила учителей, внеся в их учение свою редактуру. Правду скажешь, всё потеряешь: и друга, и родственника, и работу, если правда та начальника твоего касается. Выходит, нет другого выбора у взявшегося за перо – журналиста, писателя, – если он метит в настоящие. Говори правду, а дальше будь что будет. А будет только то, что и должно быть.
В детстве я думал, что журналисты и писатели никогда не врут. Теперь знаю, что это относится только к настоящим. Всё настоящее высоко ценится. Во все времена.







