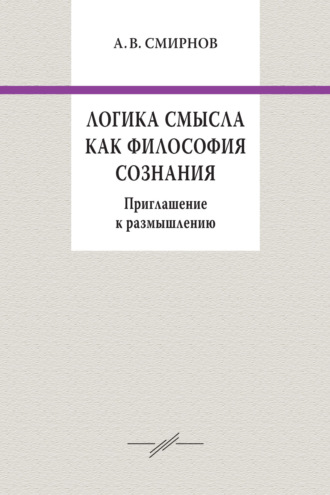
А. В. Смирнов
Логика смысла как философия сознания. Приглашение к размышлению
Ушедший век много говорил о языке, но, похоже, так и не сказал самого главного. Язык – это удивительное место встречи, слияния и неслияния тех двух отщепов, которые в европейской интеллектуальной истории разлетелись в разные стороны и никак не сойдутся, не склеятся: отщепа материального и отщепа идеального, объективного и субъективного, внешнего, данного нам опосредованно и от нас не зависящего, и внутреннего, данного нам непосредственно и находящегося, по крайней мере частично, в нашей власти. Все проблемы и все загадки, все ходы европейской философии – вокруг того, как свести эти две стороны так, чтобы зазор между ними исчез или стал хотя бы минимальным. Или «терпимым». Последнее особенно замечательно: линия компатибилизма в аналитической философии сознания фактически признаёт неизбежность поражения при нынешних, принятых исходных посылках и, более того, объявляет это поражение победой, особым достижением философии. Ведь если сознание и тело, сознание и внешний мир скоординированы, значит, надо либо показать причинную связь между ними, обеспечившую эту координацию, либо, при отсутствии таковой, показать координирующую инстанцию, каковой не может выступать ничто, кроме Бога. Либо теология (Бог как гарант), либо наука. Но философия сознания в данном её варианте не говорит ни того, ни другого. Теологический уклон был бы неприличен, а научный – невозможен. Причинная связь между сознанием и внешним миром, как бы её ни понимать – в духе ли материализма, в духе ли идеализма, – здесь не признаётся. И правильно: скачок от одного к другому ещё меньше поддаётся объяснению, нежели скачок от вида к роду или от составных значений высказывания к целостному значению. В самом деле, в любом аналитическом высказывании («человек – разумное живое») значение его истинности всегда прибавляется к значению входящих в него слов и никогда не вытекает из них как таковых. Точно так же в предложении «Мальчик умный» общее значение предложения, т. е. утверждение ума мальчика, никак не вытекает из значений входящих в него слов, равно как из синтаксиса предложения, разве что такое значение будет вложено с самого начала в синтаксис именно данного предложения. Из значения предложения «Мальчик умный» также никак не вытекает его тождество с предложениями «Мальчик умён» или «Мальчик неглупый» – это всё вещи, никак не объясняемые и необъяснимые в рамках атомистической стратегии. Связность не может быть ухвачена при следовании линейной атомистической стратегии выстраивания знания.
В этом главное. Суть языка, взятого как речевая деятельность, не как набор формальных средств, – именно и только связность. Но именно связность никак не поддаётся схватыванию, если мы следуем, вслед за всей европейской традицией по крайней мере начиная с Платона, стратегии линейного выстраивания знания через конструирование сложных объектов из исходных элементов. Невозможность «конечного» (или, что то же самое, исходного, изначального) элемента; смысловая необъяснимость связей, отношений и прочего клея, которым приходится стягивать конструируемые элементы; разнокалиберность исходных элементов знания внутри любой науки; междисциплинарные перегородки между науками. Таковы принципиальные и неустранимые изъяны, которыми грешит названная стратегия. Это – изъяны бессвязности.
Можно ли восстановить связность? устранить названные разрывы, подлатать так эффективно и эффектно работающее тело науки? и надо ли его латать, – вот ведь немаловажный вопрос: неужто менять отработанную столетиями и подготовленную тысячелетиями идейного развития стратегию линейного атомистического выстраивания знания? ради чего – чтобы сделать приятное философии и почтить память великого Кузанца? что даст свёрнутость-развёрнутость как альтернативная стратегия построения знания, научного и философского?
Язык и сознание – наш доступ к связности. И не просто доступ к ней. Такое выражение неверно: связность составляет саму стихию и языка, и сознания. Значит, понять и объяснить, и в том числе узнать, как работает язык и сознание, можно только через стратегию свёрнутости-развёрнутости, и ни в коем случае нельзя через стратегию линейного атомистического конструирования. Но именно здесь эти две стратегии сталкиваются, претендуя на объяснение одного и того же. И если вторая из них, линейная атомистическая, хорошо разработана и вовсю разрабатывается дальше, то первую – стратегию свёрнутости-развёрнутости, – совершенно необходимую, в пользу которой свидетельствует весь наш опыт (который в данном случае, в отличие от других, имеет несомненное преимущество перед любым внешним объяснением), ещё только предстоит разрабатывать.
Язык и сознание исследуют каждое по отдельности, как если бы они были разными, отделимыми один от другого предметами. Лингвистика открывает объективные законы строения и развития языка, начиная с его фонематического уровня и кончая корпусным. Эти законы оказываются столь же непреложными, сколь непреложны и объективны законы внешнего мира, законы природы. Потрясающие успехи компаративистики свидетельствуют об этом: диахронные исследования языка стали настоящим прорывом. Так язык превращается в ещё одну вещь внешнего мира, совершенно отрывается от моего сознания, объективируется. Равным образом сознание стремятся объяснить на основе действия нейронных механизмов. Просто-таки невозможно поверить, что серьёзные учёные совершенно всерьёз думают, будто отслеживание возбуждения и торможения нейронов и их цепей даст ключ к пониманию сознания, если ввести какое-то промежуточное звено между ними вроде когитома: нейронная структура, выполняющая когнитивные функции и, следовательно, производящая сознание. Только теория лингвистической относительности в её, во-первых, адекватном, а во-вторых, современном прочтении (обе оговорки крайне важны ввиду крайней же вульгаризации идей Сепира и Уорфа) пытается нащупать связь между языком и сознанием, прежде всего – между языком и когнитивными процессами. И здесь, и там – и в исследовании сознания через мозг и нейронные механизмы, и в современной лингвистике – полностью торжествует линейная атомистическая стратегия выстраивания знания.
Что касается нейронауки, то это вполне очевидно: она не отличается в этом от других наук, применяя ту же стратегию выстраивания знания, и любые нейронные сети или более сложные структуры всё равно состоят из первичных элементов и их связей. Если бы нейронаука имела шансы на успех в объяснении сознания, одна из важнейших задач философии была бы решена: был бы найден переход между разными онтологическими уровнями, и отщеп материального вполне совместился бы с отщепом идеального, не оставив следов расщепления и не являя никакого зазора. Но поскольку это совершенно очевидным образом невозможно, приходится вовсе устранить субъективное сознание из научной картины мира: от ненужных квалиа, ненужной свободы воли и совсем уж ненужного «я» почти окончательно избавились и в аналитической философии сознания, и в нейронауке, и даже в психологии. Так устраняется само место, которое мог бы занимать человек в этой – без него – совершенной картине мира линейных конструкций связанных один с другим элементов.
Лингвистика также начинает с атома, с элемента – фонемы. Фонема как бы (мы вскоре вернёмся к этому «как бы») служит строительным кирпичиком, из которого выкладываются сложные структуры – морфемы, образующие, в свою очередь, лексемы. С помощью правил синтаксиса лексемы склеиваются в предложения, а предложения, по совсем уж для лингвистики неведомым законам (или, что то же самое, произвольно) образовывают тексты – самые сложные структуры, о которых может говорить лингвистика, если не считать виртуальной совокупности всех текстов языка – корпуса. Замечательно: всё вроде бы работает, и так построенное знание даёт нам знать, как работает язык. Но вот какая штука: зная как будто очень много об устройстве языка и даже претендуя на окончательность научного объяснения, лингвистика совершенно не способна подсказать, как выстроить перевод с языка на язык. Интересно, не так ли? «Маленький» сбой: даже нынешние мощные, но столь неуклюжие на деле программы перевода, способные передавать разве что самые простые тексты и ломающиеся уже на крошечном усложнении, работают только потому, что за счёт неимоверной, превышающей любые человеческие способности, вычислительной базы и сетевой технологии доступа способны сравнивать каждый конкретный случай с набором образцов. Но ведь это полностью противоречит стратегии линейного атомистического выстраивания знания: смысл предложения или текста (и даже отдельного слова!) выстраивается в таких программах вовсе не через склеивание неких семантических атомов. Это – не что иное, как практическое признание провала этой стратегии, её неспособности дать какой-либо внятный результат. Между тем для нас, людей, перевод вовсе не представляет непреодолимой трудности, и ту нелепицу, которую выдают самые продвинутые программы перевода, не слепит никакой переводчик-неумёха. А кроме того – и это главное:
человек не строит высказывания, а значит, и перевод, сопоставляя с образцами. Да, грамматические образцы нужны – но только для тех, кто не знает языка и не умеет говорить на нём. Носитель языка может вовсе не знать грамматики, и тем не менее он не ошибается. Это во-первых. И во-вторых, человек всегда способен создать совершенно новое высказывание, для которого нет никакого образца, а значит, парадигмальная определённость не играет роли в таких случаях. (И если бы он не был на это способен и практика языка была бы практикой шаблонирования, как то предполагается в программах перевода, язык не менялся бы со временем.) Для человека, иными словами, сравнение с образцами может играть какую-то роль, но не главную: производство высказывания для него – это разворачивание из свёрнутого состояния, а вовсе не выстраивание из атомарных значений и корректировка через сравнение с шаблонами и образцами. Это показывает, что в двух случаях применяют совершенно разные стратегии, и моя гипотеза заключается в том, что наше сознание и наш язык действуют по принципу сворачивания-разворачивания, а не по принципу линейного выстраивания начиная с элементарного уровня.
Могут сказать: в этом примере речь идёт о смысле высказываний. Это – область семантики, она в самом деле хуже разработана и, возможно, даже не может быть разработана научными средствами. Зато область формального разработана лингвистикой блестяще, и здесь её успех не может вызывать никакого сомнения. Посмотрим. Возьмём язык как набор формальных средств. Все формы языка выстраиваются, начиная с фонемы. Но саму фонему определить формально совершенно невозможно – вот ведь какая замечательная вещь! Фонема – это тот звуковой субстрат, который играет смыслоразличительную роль. Московское аканье и северное оканье не создают фонематического различия, тогда как различие первых гласных в словах «калька» и «Колька» – создаёт. Но ведь без обращения к области смысла мы в принципе не можем сказать, что такое фонема! Более того, обращение к физической реальности, т. е. к звуковым волнам, фиксируемым приборами во время произнесения нами слов, в принципе не может помочь: однозначных объективных, физических границ между тем, что мы называем «звуками» речи, нет, их нельзя увидеть. Получается, что самый базовый, исходный элемент языка, фонема, не только не может быть определён без обращения к смыслу, но и, скорее всего, исключительно через смысл этот исходный элемент, фонема, только и может быть определён, не иначе: никакое формальное определение или же обращение к физическому субстрату не помогает. Но ведь смысловая область не может быть понята и имитирована на основе линейно-атомистической стратегии: не существует никаких «элементов» смысла, и никакая их «периодическая система» невозможна. Вообще провальны любые попытки формального обращения со смысловой областью и её имитации формальными средствами, в т. ч. средствами математики: в таких случаях всегда, явно или неявно, вводится интерпретатор, опосредующий формальные представления и сам смысл. То, что касается фонемы, тем более касается и морфемы, и лексемы. А уж тем более – предложения: нигде здесь невозможно выстроить формальное объяснение без обращения к смысловой области, а значит, к принципиально другой стратегии выстраивания знания.
Впрочем, всё это не столь уж и ново: разве не знаем мы, что слово – это то, что выражает некое понятие, а предложение – то, что выражает законченную мысль? Прямая связь одного с другим, сознания с языком и языка с сознанием, невозможность понять одно без другого – вещь скорее тривиальная, нежели составляющая какое-то открытие. А если и составляющая, то только потому, что увлечённость формальной стороной языка и физикалистским объяснением сознания настолько исказила оценку всем известных фактов, что приходится их, по Шкловскому, остранить, чтобы вернуть то восприятие, которого они заслуживают.
Итак, самая интимная наша сфера, можно сказать, мы сами (ибо что такое наша самость, как не язык и сознание? не тело же, столь часто обновляющееся частями и периодически – целиком) ясно и окончательно свидетельствуем о невозможности применить линейную атомистическую стратегию объяснения и о необходимости чего-то другого. Это «что-то другое» должно быть свободно как от тех изъянов бессвязности, что были перечислены выше, так и от ещё одного, может быть, самого главного, о котором мы сказали только что: изъяна невозможности связать формализм и содержательность, изъяна, выражающегося в постоянном ускользании конечного объяснения, поскольку оно требует произвольного, внешнего введения смыслового материала. Формализм никогда до конца – не формализм, а значит, при любом основывающемся на формализме научном объяснении должна быть введена смысловая изначальная «смазка», смысловой мотор, без которого формализм – пустышка.
Избавиться от бессвязности. Это значит, что нам нужно научиться работать со связностью. Но связность изначальна, её нельзя ввести «потом», сперва разрубив секирой линейного атомизма, как нельзя, склеив разбитый сосуд, получить несклеенный. Надо начинать со связности. – Вот, собственно, и сказано главное: вожделенным началом философии является связность.
От Платона до Гегеля, и даже дальше, европейская философия принимала за связность – диалектику. Но диалектика связывает, а не является связностью. Она связывает, начиная с чего-то: ей нужно это начальное звено, всё тот же элемент, к которому она приложит себя и в котором явит своё действие. Европейская диалектика стремится распустить, почти растворить субстанциальность исходного, вычленив в нём внутреннюю сложность, противоречия, и затем, сыграв на их игре, вывести новую содержательность. Диалектика пытается расстаться с субстанциализмом, с элементарностью начала и с линейностью вывода; но ей это не удается. Она ведь так и движется от значения к значению, и смысл диалектического метода – выявить неочевидность субстанциальности, т. е. закрытости, законченности значения, показать таящиеся в нём возможности перехода к другому значению. И так далее: вновь обретённое значение также явит свою сложность, неоднозначность и благодаря этому потребует нового значения. Такие переходы у корифеев диалектики – почти разворачивание. Но именно почти; и замечательно (т. е. достойно того, чтобы быть взятым на заметку), что Николай Кузанский не верит этим блестящим текстам. Не верит в том смысле, что его программа не может быть выполнена ни теми, кого он знал, ни теми, кто пришёл после него.
Почему? Потому что традиционная европейская диалектика, хотя и стремится поставить связность во главу угла, страдает теми же недугами бессвязности, которые сопровождают стратегию линейного атомистического выстраивания знания, столь эффектно и эффективно развитую европейской мыслью. Начиная с чего-то, а не с самой себя, диалектика не может обосновать этот всегда произвольный и всегда частичный выбор. Частичность вполне проявляет себя в текстах Платона: начиная всякий раз с чего-то, с какого-то понятия, мы выстраиваем некую линию, круг или иную фигуру рассуждения, двигаясь от значения к значению. Но в следующий раз мы начнём с другого и опять проделаем некий путь. И так далее. Всё это очень увлекательно, но как эти разные траектории соотносятся друг с другом, как сходятся, и сходятся ли? В текстах Платона, диалектически стремящихся к связности, парадоксальным образом уже вырастают дисциплинарные перегородки – между справедливостью и благом, истиной и красотой, намечая внутридисциплинарное деление философии; и не случайно систематизирующее усилие неоплатонизма было столь напряжённым, и столь не до конца удачным: свести все эти линии в единую систему всё равно не получилось. Произвольность начала вполне очевидна и в диалектике Гегеля, и великолепное здание наук, им воздвигнутое, всё же держится на этом необязательном начале; начале, следовательно, не изначальном.
А обязательна и изначальна только связность – как таковая, а не как связанность чего-то. В этом всё дело, и единственный шаг, который предстоит сделать философии и философскому мышлению, чтобы вполне осознать себя и обрести твёрдую почву, – это шаг от связывания к связности как таковой.
Этот шаг подготовлен всем развитием европейской философии. – Наверное, и любой другой, если отнестись к ней столь же внимательно, как мы относимся к европейской. – Подготовлен, но не сделан. Тому помешали, я думаю, два обстоятельства.
Во-первых, заносчивость европейской философии, никогда всерьёз не принимавшей, и сегодня не принимающей, несмотря на все увёртки политкорректности, идеи другого разума, иной рациональности, нежели та, что была открыта в ходе европейского идейного развития. Всеобщность разума, или разумная всеобщность – действительная, подлинная регулятивная идея любой философии, была в европейской традиции едва ли не с самого начала понята и истолкована в духе унифицирующего универсализма, т. е. универсализма с приставкой «обще-», а не с приставкой «все-». «Всеобщее», этот бог диалектики, остаётся поэтому интересным недоразумением: разум, нацеленный на то, чтобы обобщать, а не собирать, способен, следовательно, только к «обще-», а не ко «все-», даже если объявляет первое – вторым. Сколь часто ни открещиваются европейские или североамериканские философы от гегельянской схемы истории философии, слова остаются словами, а дела – делами: западный разум по-прежнему не имеет у них ни собратьев, ни конкурентов, и любые проявления инологичной рациональности, которые заявили о себе в ходе исторического развития неевропейских культур, перетолковываются в духе побочной линии, недо- или прото-, маргинализируются как недостаточно рациональные. Любой профессиональный философ, если он честен с собою до конца, увидит, что и сам следует этой линии почти инстинктивно, безошибочно выбирая именно её, и нужны особые усилия, чтобы воздержаться от такой априорной установки. Чтобы действительно принять универсализм «все-», а не «обще-».
Во-вторых, эта заносчивость скрыла самое главное, о чём следовало бы вести речь: вариативность связности. И диалектика, и формально-логическая мысль открыли противоположение-и-объединение как путь выстраивания связности. Что такое тезис-антитезис-синтез, как не противоположение-и-объединение? Что такое простейшая родовидовая структура, как не противоположение-и-объединение? Диалектика и формальная логика, эти два крыла европейской мысли, вовсе не расходятся в самом главном, в исходном: в том, что связность в её «минимальном», т. е. свёрнутом, состоянии должна быть взята как противоположение-и-объединение. Их расхождение – потом, и обусловлено оно только их обоюдной недостаточностью и обоюдной восполнимостью. Их расхождение – это расщепление на содержательность и формализм, и если диалектика утверждает, что с содержательностью можно рационально работать, то формально-логическое мышление говорит ровно противоположное: только с формальными структурами. Но как формализм никогда до конца – не формален, так и содержательность, с которой имеет дело диалектика, никогда до конца не содержательностна: содержательность только потому способна прийти в движение, что в ней вычленяются на каждом шаге повторяющиеся логические структуры, и точно так же любой исходный для дальнейшего строгого построения формализм всегда сугубо содержателен, а значит, передаёт эту содержательность по наследству всему, что на нём построено.
Европейская мысль всегда опиралась на субстанциализм – не в содержательном (хотя и это важно), а в логическом плане. В смысле логики устройства предикации. (Вообще важен именно этот аспект; ведь и атомистическая стратегия вовсе не обязательно предполагает принятие атомизма как онтологического учения: антиатомистическая физика Аристотеля подчёркнуто атомистична в смысле выстраивания на основе принятия элементарного начала.) Устойчивость, закономерность и подлинность здесь мыслится как сущность, как эйдос, как неизменяемая суть. Такое представление напрямую сопряжено с пространственной интуицией, и фигуры Эйлера не случайно безошибочно, не нуждаясь ни в каком доказательстве, окончательно убеждают в правильности логических законов, вытекающих из субъект-предикатного сочленения, понимаемого как (не)попадание субъекта внутрь пространственной области предиката. Даже простейшие законы всесильной теории множеств можно иллюстрировать таким образом! Но если элементом, т. е. атомарным началом, выступает не субстанция, а процесс, то пространственная интуиция и построенная на ней формальная логика не годятся. Здесь работает другая парадигма: действователь, устойчиво связанный процессом действия с претерпевающим. Здесь тоже – противоположение-и-объединение: противоположные действователь и претерпевающее объединены процессом. Но процесс здесь – не будем поддаваться привычному звучанию слов – следует понимать не как временно́е изменение субстанции (как то привыкло делать европейское мышление). Нет, процесс, или, что то же самое, действ(ован)ие, следует понимать как первичную, исходную действительность, как подлинную вещность, а значит, до всякого времени. Это совершенно непривычно для традиционного европейского взгляда – но это, во-первых, вполне может быть разъяснено на европейском понятийном языке после того, как, во-вторых, в полной своей осуществлённости будет увидено, замечено, понято и раскрыто в многообразных явлениях той культуры, которая сполна развила этот процессуальный взгляд – культуры арабо-мусульманской.
Противоположение-и-объединение – это чистая связность, связность как таковая. Или, что то же самое, целостность. Слово «целостность» употребляется тут и там, и там и тут – совершенно невпопад, поскольку под целостностью понимают свойство целого или свойство быть целым. Но целостность не сводится к целому, скорее наоборот. Если нужно определение, то вот оно: целостность – это то, что не может утерять что-либо из себя, не разрушившись целиком, и в чём содержательная наполненность каждого зависит от содержательной наполненности всего остального. Таково противоположение-и-объединение в любом из двух нам известных вариантов его реализации: через родовидовую парадигму и через парадигму действователь-действие-претерпевающее. В противоположении-и-объединении ни любое из противополагаемого, ни их объединение не имеет смысла вне связанности со всем прочим, не может быть «вынуто» или овнешнено, как не может быть и устранено. При этом целостность как таковая бессубъектна, мы можем говорить о ней до и вне всех предикационных структур: целостность – это именно то, что разыскивал Гуссерль как допредикационную «структуру сознания». Но целостность – не структура, целостность – это свёрнутость, способная развернуться и при этом, разворачиваясь, не прибавлять к себе ничего. Так, именно так действует наше сознание: высказывая мысль, мы попросту разворачиваем её из свёрнутого состояния, и «внутренняя речь» – это не конспект, не сокращение и не сгущение, это – сворачивание той развёрнутости, которая может быть представлена в звучащей речи. Точно так же субъект-предикатная склейка целостностна, и только как целостность её можно адекватно понять, иначе мы встанем перед совершенно неразрешимым вопросом о том, как связка или иной связывающий механизм склеивают отдельные подлежащее и сказуемое, субъект и предикат. Как уже неоднократно говорилось, склеить их нельзя, если они изначально не предстают как целостность: с целостности надо начинать, и только от неё приходить к отдельности и дискурсивности как к вырожденному случаю. То же у Аристотеля в понимании времени: он хочет научиться рационально, т. е. с помощью атомистической линейности, работать со временем. Но оказывается, что атома времени нет и не может быть: так вскрывается онтологическая ничтожность субстанциально-атомистической линейной стратегии в понимании времени. (Не эту ли онтологическую ничтожность субстанциального атомизма открывает современная физика? А ведь в теории времени она давно подсказана Аристотелем, которого, бывало, клеймили как субстанциалиста, направившего весь поток европейской философии в ложное русло.)
Целостность поддерживаема самой собою, и только самой собою. Вариативность целостности не прибавляет к ней и не убавляет ничего: в любом из вариантов целостность остаётся собой. Эта удивительная внутренняя заряженность целостности дана нам как то же иначе: любой из названных вариантов – ровно то же, что и другой (поскольку целостность – всегда целостность), но целиком и полностью – иной (поскольку целостность меняется только целиком, в ней, именно в силу всесвязности, нельзя заменить что-то одно, не поменяв всё остальное).
Проект Николая Кузанского абсолютно рационален – надо лишь довести его до того начала, которое предчувствовал, но не смог высказать великий провидец. Это начало – всесвязность, или целостность. Она способна разворачиваться потому, что сама целостна: целостность, или всесвязность, принципиально рефлективна. Она – именно то, что она говорит, она и есть собственное высказывание: если она говорит «целостность», она и есть целостность, и если она говорит «всесвязность», она и есть всесвязность. (Вот где впору вспомнить Тарского: здесь кавычки и бескавычность в самом деле были бы нетривиальны.) Сказать «целостность» и сказать «целостность целостностна» – одно и то же, первое подразумевает второе и не может не быть вторым.
Целостность. Всесвязность. Это – свёрнутость, а вовсе не точка. Теперь (в дополнение к сказанному выше) ясно, почему не заметили проект Кузанца: потому что он сам дал повод трактовать его в традиционном ключе, в ключе линейного атомизма. Ведь точка – элемент, именно такой, с какого начинает традиционное европейское мышление. Но точка Николая Кузанского лишена связей: из неё нельзя выстроить связную конструкцию, умножив её как элемент и стянув эту множественность связями и отношениями. В силу этого элемент Кузанца парадоксален; но и не парадоксален, если рассматривать его в правильной перспективе, в которой он – вовсе не элемент и где вместе с элементарностью уходит и парадоксальность. В этом всё дело: в адекватности взгляда. Проект Кузанца задаёт вовсе иную перспективу, вовсе иную стратегию выстраивания знания и даже понимания цели познания. Но это сполна выясняется, только когда мы начинаем с того, с чего надо начинать: не с точки, а со связности. Или, точнее, со связности, взятой как таковая, – т. е. со всесвязности. Именно это задаёт другую перспективу и делает понятным то, что оставалось не- прояснённым у Николая Кузанского: как начало может развернуться само, не беря ничего внешнего. Ведь Кузанец говорит о точке не потому, что это – элементарное начало вроде точки в геометрии. Нет, вводя точку, т. е. как будто и ничто, он ничтожит всё, что можно подвергнуть ничтожению. Он устраняет всё внешнее, всё наносное, всё предзаданное: он хочет начать с подлинного начала. Но точка, как бы ни входить в тонкости её толкования, пусть даже так, как это делал Бибихин, – не сможет сыграть ту роль, которую отвёл ей Кузанец. Его поэтому и пустили по ведомству мистицизма: раз с его точкой нельзя работать «рационально», что означает – её нельзя положить как начало в линейном выстраивании знания, умножая и связывая отношениями, – следовательно, заключает европейское мышление, это – мистицизм, что-то таинственное, поскольку взывает не к ясному свету разума, а к тайной глубине чего-то такого, над чем разум не властен. Всё бы так, но лишь с одним добавлением: разум в самом деле не властен над таким началом, но только если понимать разум и разумность в том их варианте, который открыт, осуществлён и развит европейской культурой. Однако в том-то и дело, что разум фундаментально вариативен – точно так же, как фундаментально вариативна целостность. Точнее даже – в силу вариативности целостности, поскольку разум, с которым мы привыкли иметь дело, и есть не что иное, как способность дискурсивно развернуть целостность как субъект-предикатную конструкцию.
Вот оно что: дело не просто в том, что разум фундаментально вариативен – хотя и эта несложная мысль, если будет признана и принята, составит в философии настоящую революцию, какой ещё не было. (Потому и не будет признаваться, а будет замалчиваться или забалтываться, чтобы не допускать всеобщего переворота.) Фундаментальная вариативность (дискурсивного) разума вытекает из того, что дискурсивность, т. е. отрывочную развёрнутость, можно выстроить только как субъект-предикатную конструкцию, а способы субъект-предикатного конструирования разнятся вслед за варьированием целостности. Субъектное разворачивание целостности, разрубающее её внутреннюю связность, осуществляется по разным технологиям потому, что предицирование, т. е. обрастание субъекта предикатной шубкой, осуществляется так, как то подсказано и указано данным конкретным вариантом целостности. Мы говорили выше о двух; значит, возможны как минимум два разных варианта разворачивания субъект-предикатных конструкций, два разных варианта дискурсивного разума. Поскольку оба реализуют фундаментальную вариативность целостности, они в этом равны и не могут превосходить один другой и вообще не могут быть сравниваемы линейно.
Выражения вроде «европейский разум» и «арабский разум» (их можно заменить синонимами, такими как «субстанциальный разум», «процессуальный разум» в том смысле субстанциальности и процессуальности как способов организации субъект-предикатных конструкций, который был намечен выше) получают свой смысл в свете сказанного. Это – отдельные способы отрывочного, т. е. вырванного из сворачиваемо-разворачиваемой целостности, оконеченного разворачивания – такого разворачивания, которое всегда имеет фиксированные начало и конец. И обычно имеет продолжение, это верно; но продолжаем мы всегда так, как если бы продолжение было очередным началом. В отличие от этого, подлинное, целостностное сворачивание-разворачивание не начинается и не заканчивается, оно не продолжается и не длится, не останавливается и не возобновляется, не прирастает и не умаляется: известное выражение «всё во всём» выражает предчувствие свёрнутости-развёрнутости. Так потому, что целостность не может быть увеличена или уменьшена, и в своей бесконечной варьируемости, составляющей её саму, она не меняется. В этом смысле целостность и есть ускользание: она не может быть зафиксирована и «схвачена» именно потому, что целостностна. А фиксирующий и схватывающий разум – это всегда отдельный разум, развивающий только один из возможных вариантов субъект-предикатного склеивания как отрывочного, дискурсивного разворачивания целостности. История культур человечества – это бесценная кладовая опыта разворачивания отдельных, отрывочных, дискурсивных разумов. Способность работать с ними всеми как с равноценными вариантами – это способность универсализма с приставкой «все-», а не с приставкой «обще-». «Обще-» бывает только тогда, когда один из вариантов, неважно, какой именно, выдают за привилегированный, исключительный и отдают ему то царское место, которое по праву принадлежит только целостностному разуму, разуму «все-», и никакому из дискурсивных разумов.






