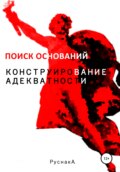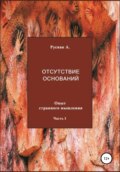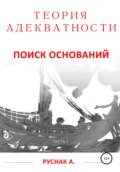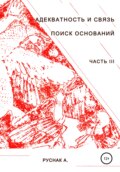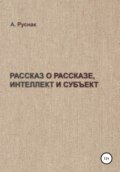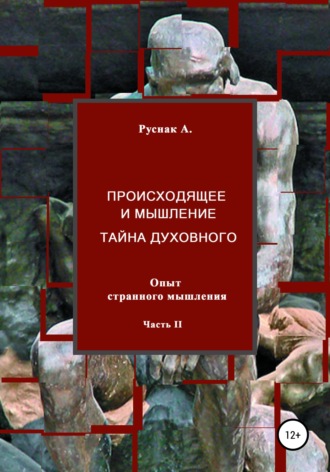
А. Руснак
Происходящее и мышление, тайна духовного. Опыт странного мышления. Часть II
Есть слово «треугольник», но что стоит за этим словом? Какое-то реальное существование? Какое? Например, мысль?
Физики говорят, что «Вселенная устроена так-то», что «Вселенная расширяется…», что «Вселенная состоит из…», но им стоит уточнять то, что это «они так думают, что…», а что на самом деле присутствует, происходит – это загадка, которая начинается с того, что им дано только слово «Вселенная», слово «пространство», слово «время», а не то, что с той стороны, и такое состояние дел очень просто, но сложно понять.
Так называемые «законы природы» не даны нам непосредственно… Почему? А что у нас есть в наличии? И между этим «наличием» и «законами» есть еще что-то… какое-то вечное среднее звено, какие-то конструкции, которые и являются объяснительными, то есть тем, с помощью чего происходит описание того, что происходит в мире и что не дано непосредственному усмотрению.
Можно ли использовать математику для описания какого-то «общества»? Можно ли использовать понятие «общество» для описания какой-то жизни, какого-то происходящего? Можно, конечно, можно, можно использовать «какой-то язык», все методы – и количественные, и качественные, все остальные способы упрощения, сводимые к обычному языку, могут быть использованы…
И явленная логика в каком-то смысле – это та же математика, это способность конструировать нечто, с помощью чего можно разглядывать то, что нельзя никак определить, кроме как через конструкции. То есть это, опять же, какое-то «обтекание» реальности, а не сама последняя реальность. И все эти выверты, эти грандиозные здания, созданные разумом, это только возможности самого мышления, но эти конструкции не могут объяснить, чем является мир на самом деле, чем является мышление на самом деле, какая присутствует связь между этими конструкциями, неостановленным миром и неявленным в виде конструкций мышлением28. То есть такие «призмы» очень интересны, их можно совершенствовать, можно усложнять, их можно затем разглядывать, но из чего они сделаны и что через них видно, и чем является на самом деле такое разглядывание – это тайна. Такие явленные конструкции, конечно же, предполагают некие следующие мысли-конструкции, и такие конструкции-мысли предполагают следующие новые конструкции, но как это нас приближает к тайне?
Отсутствующие основания у математики, отсутствующие основания у любой науки говорят о том, что все основания находятся только в разуме? И «любая наука о мире» – это на самом деле только «конструкция мышления о мире». И такие конструкции – это какая-то значительность, которая что-то говорит, но что значит это «говорит»? Это позволяет каким-то образом воздействовать на происходящее, можно даже создать какие-то «реакторы». Но происходящее при этом всем остается чем-то непонятным.
Какие-то математические, и не только, конструкции являются тем инструментом, который позволяет качественно, по-новому работать с происходящим. И такие конструкции становятся сложным способом воздействия, каким-то сверхинструментом работы с происходящим.
В общем, все явленное из мышления можно понять как сложный инструмент взаимодействия с происходящим, но именно в качестве некоей конструкции особого порядка. И эти выхолощенные языки, изобретенное и найденное в мышлении – это то, что значительно изменяет практику29, и создает как бы различное продолжение мыслительных инструментов. И это могут быть какие-то сложные системы позволяющие управлять производством, и манипулировать значительными ресурсами и т. д. Что в итоге позволяет организовать труд миллионов, создавать какие-то сложные игровые комбинации, какую-то военную, экономическую и другие стратегии. И это все то многообразие изощренного человеческого мышления, которое позволяет качественно менять все происходящее. И такие «цифры», такие математические модели и другие «цельные конструкции мышления» позволяют качественно, по-иному воздействовать на происходящее, по-другому в нем участвовать. Но, в любом случае, это все не позволяет преодолеть барьер взаимодействия с происходящим.
И мысль всегда наталкивается на какую-то невидимую и непреодолимую преграду30. И почему всегда конструкции – это не происходящий мир? Но также конструкции – это из мышления, но это не само мышление? И почему-то явленное через мышление может воздействовать на мир и «через руки», и через другое, но затем это другое, сначала явленное в мышлении и с помощью инструментов мышления, затем, перестав быть мышлением, может начать как-то воздействовать на происходящее уже самостоятельно? То есть, допустим, ум может запустить какой-то механизм воздействия, и он как-то начнет менять происходящее, но затем через время некая энтропия поглотит усилия воздействия на нее и вернет все в первозданное состояние, показывая, что происходящее куда-то происходит, а вмешательство мышления сюда – это какой-то временный резонанс? Или все же такое вмешательство сюда все же как-то глобально меняет это происходящее?
И что есть такое «взаимодействие мысли и происходящего», и что есть «воздействие этого происходящего на мысль» и «мысли на происходящее через инструменты»? И все такое мышление является какой-то загадкой, какой-то нерешенностью. Непонятно, чем является происходящее, почему оно может воздействовать на мышление, почему мышление может воздействовать на него, почему мышление не явлено конкретно, а только через посредников… Почему?
Может ли мышление напрямую взаимодействовать с происходящим вне какого-то осознанного, как-то на каком-то непонятном уровне? Почему явленное из мышления как-то соответствует происходящему, но только как-то? Почему происходящее может воздействовать на мышление, но не прямым образом, а как-то иначе, и что это значит? То есть происходящее как-то изменяется, показывая свою какую-то «настоящую» натуру, и эта натура может отличаться от той конструкции, которую нарисовало мышление, и это позволяет по-новому относиться к конструкции, как-то ее менять…
В Новое время утвердилось мнение о том, что действительно присутствует физический мир (материальный мир, протяженность), а также и некий мыслительный-духовный-интеллектуальный мир (разум, мышление, ум, дух), и между таким ментальным и физическим присутствует противоречие или даже, возможно, противопоставление таких миров. То есть существует «особое» несоответствие между происходящими физическими процессами и мышлением. И как разрешить такое, как его понять? Лейбниц и монады – предустановленная гармония, какое-то решение Декарта, решение Локка или решение Юма и затем Канта, Фихте…, а может быть другое решение, какое-то абсолютно другое решение? Или и решения нет, и проблемы такой тоже не существует?
Онтология – «логия присутствующего бытия», такая «логия» предполагает, что в том «присутствующем на расстоянии руки» есть какая-то структура. Возможно, эта «логия» находится очень близко, но и очень далеко, при этом вне физики, над физикой, за физикой. Что это за «логия» и как можно понять то бытие, которое эта «логия» представляет? Какое существование можно установить, как внешнее? Что можно установить «точно» как внешнее существование? И тут может возникнуть мысль, что решение не возникает само по себе, оно возникает в процессе, то есть истина возникает в процессе, но так ли это?
Хайдеггеровское «забвение бытия» говорит о том, что можно сколько угодно отрицать это действительное присутствие, можно его заменять какими-то схемами, например, аристотелевскими, а затем контовскими, но такое забвение бытия не отменяет наличность бытия, его наличную действительность, которая сминает все схемы и движется дальше, куда-то туда… И все «схемы бытия», все миры, все представляемое, все вырванное, все созданное человеком – это не само бытие, но что есть «само бытие», если для человека бытие всего находится в тумане состояний, в тумане схем…?
Страх от встречи с «ничто»
Что такое «ничто», точнее, как можно «говорить о ничто»?
Если его нет, нет в этой данности в качестве «чего-то», то «о ничто» можно говорить так же, как и «о площади какой-то вещи», «площадь существует в мышлении»31, а что с этой-той стороны? Так и с «ничто». «Ничто» для мысли – это что-то, с чем можно работать, но что с этой стороны? Со стороны данного и того, что за ним? То есть всегда есть мысли «о ничто без мысли», «о ничто и того, что находится за мыслью», «о ничто и тем, что находится в мысли», «о ничто как о происходящем»…
Можно предположить, что разговоры о таких существованиях «ничто» бессмысленны, не предметны?32 Можно так же утверждать, что да, такой разговор «не производит реального существования ста талеров», но разговоры все же продолжаются, значительно особым образом меняя происходящее… Почему? А присутствующий – «предмет»? Он может себя «зафиксировать» как «сто талеров», а «сто талеров» можно «зафиксировать»? А «сто талеров» существеннее того, что они подразумевают, и что из этого первая реальность?
И если мышление может что-то думать о «ничто», то тогда это уже как бы «не совсем ничто», а это уже какое-то «нечто как ничто». И любой, включенный33 в «какое-то что», всегда одновременно находится в «каком-то ничто»? И это, возможно, одновременное присутствие какого-то «что-ничто». Можно предположить, что такое состояние мышления между что-ничто-что… позволяет каким-то образом быть в этом тут, но одновременно переключаться, отключаться, включаться по-другому? То есть, возможно, не «свобода» является причиной мышления, а «неизвестное ничто». И «таких ничто» может быть множество? И, возможно, о «каких-то из ничто» говорить не стоит?
Загадкой тут будет вопрос о том, является ли «некое ничто» тем, что равно какому-то «там» или это какие-то разные величины? Можно отрицать существование какого-то «конкретного ничто», которое уже стало после этого «каким-то что». Но как быть с мыслью о каком-то «тотальном ничто» и его запредельном значении, из которого как бы происходит черпание этих всех «ничто», становящихся «что»?
Какое-то «конкретное ничто» – это всегда какое-то упрощение, то есть «ничто», ставшее «что» – это всегда копия чего-то другого, какого-то «запредельного ничто»?
Но почему «страх от встречи с ничто» – это самый жуткий страх для того, «кто есть как что»? Кто в своем уме хочет перестать быть или хочет «перестать быть что»? Такое нежелание стать каким-то «окончательным ничто» – это древний жуткий страх, который, возможно, как-то указывает на то, чем является на самом деле «что». Возможно, это не какая-то «программа», телесная личность, животные инстинкты, бутафорский искусственный интеллект, а это что-то совершенно иное…, совершенно «не предметное примитивное что».
И все попытки преодолеть такой страх возможны, но какова цена таким преодолениям? …Быть-не быть, быть-не быть… Чем человек заплатил за такую способность? Или не заплатил…, дар случайный, дар напрасный?
Возможность преодолевать «ничто» и возможность преодолевать «что»? При этом это каждодневное требование, требование становиться «каким-то что», находясь на границе такого не быть-быть, находясь внутри такого противоречия или между ним. То есть каждая мысль, каждый поступок, решение, вещь, акт, социальная реальность, войны… и каждое сейчас – это производство себя, это производство «конкретного что», но вокруг этой чтойности присутствует какая-то неизвестность, какая-то тотальная безмолвность, бессмыслие… ничтойность… И как сосуществуют эта тотальная ничтойность и становящаяся чтойность?
И тут опять могут быть мысли о том, что можно говорить:
1)
О ничтойности вне мышления, безмолвной природе, сущем без существования…, без мышления…, без расчлененности…, но все же как-то существующей, то есть, как может быть «ничто, но какое-то что»?
2)
О ничтойности за мышлением, о некоем до-мышлении, о прародине мышления… о каком-то до-бытии, с которым мышление, то есть «что» почему-то до ужаса не хочет встречаться…
3)
О чтойнойсти за мышлением, о первом акте, великом акте, Акте!
4)
О чтойности как о другом бытии ничтойности…, сущем равным существованию…, о ничтойности как другом бытии чтойности, об их взаимозаменяемости, о постоянном становлении…
5)
Или о какой-то нирване, или о чем-то другом?
6)
…
Могут возникать мысли, что такие мысли – это только какие-то спекуляции…, но только ли?
А что если «акт преодоления» был? Чем-кем был такой акт? Как можно понять такой акт? Или за этим актом был другой Акт? Или…?
И после завершения «что» возвращается к Акту, становится другим «ничто», сливается с несуществованием с до-бытием или что-то другое? Или, опять же, это только мысли?
Или стать «ничто» – это наивысшее стремление? Или избавиться от «что» – это на самом деле невозможность?
И что из этого является нужным, необходимым, запретным, желанным, злом, противным…?
Почему преодоление «ничто», то есть творение «что», также сложно, как и какое-то странное желание стать «каким-то ничто»?
Что предоставило преодоление? Преодолев «ничто», он стал Человеком, а кем был до этого? Платой было получение «что», то есть изгнание из рая, из состояния «безмятежного ничто», из мира ничтойности, из мира природы? То есть «когда тебя нет как что», тогда нет ничего – ни страха, ни боли, ни ответственности, ни радости, ни…, а есть сплошная неразличенность, сплошное ничто…?
И «страх от встречи с ничто» можно объяснить каким-то животным страхом, но так ли это?
В таком и проявляется та незаданность того, кто родом из «какого-то ничто», он может стать кем угодно, и даже наперекор «своему что» может решить «обратить себя в ничто»? Возможно, что в этой точке и пролегает граница между обывательской мистикой и действительным опытом. Обыватель, не теряя «свое что», хочет заглянуть туда, в то «действительное ничто», хочет узнать что-то о нем, но «действительная встреча с ничто» предполагает «расставание со своим что», и тут обывателя обуревает страшный страх «расставания с что», и он стремится покинуть эти пределы…, но только «тотальное согласие отказаться от что» позволяет что-то «узнать о ничто». Но кто в здравом уме готов, являясь «конкретным что», подвергнуть себя такому?
А возможно ли, что «прерывание что» – это не погружение в «тотальное ничто»? И тут другая загадка, а родина этого «что» – это «ничто», то есть оно возникло из него или это все происходит как-то иначе? Почему любые попытки опредметить «что» терпят неудачу, почему «что» не хочет становиться схемой, программой? Почему «что» умеет создавать схематизмы, программы, предметы, происходящее, но само им становиться не желает? «Что» – это не предмет и не программа, это что-то другое. И любой, стоящий за этим конкретным «что», все равно это какая-то неуловимость – «нечто, что есть как-что». Но одновременно – это «нечто неопределенное, то есть это то, что невозможно остановить». Это «что» всегда существует как какое-то движение, какая-то мысль, состояние, представление, определение, долженствование, реализация, стремление… И его нельзя схватить, нельзя определить, оно не наблюдаемо непосредственно в мире чтойностных образований после.
Радость «что» от того, что оно есть как «действительное что», присутствует после какого-то посягательства на это присутствие. То есть любое существующее «что» на каком-то глубинном уровне готово до последнего защищать свое присутствие в качестве себя.
В таком «что» что-то всегда постоянно, а что-то может меняться, что-то будет происходить, но какое-то «ядро» этого «что» неизменно, оно существует вне происходящего, вне времени и пространства, вне всяких данностей того, что находится в постоянном преобразовании. И это состояние «себя не переходящего» – это тоже загадочное состояние. И чем является это «неизменное-ядро-что» или это только какая-то иллюзия?
И этому «не переходящему» невозможно «представить что-либо вне присутствия рядом этого себя». То есть все происходящее происходит, но в том, «что-происходит», всегда есть вот это «что». То есть любая мысль о том, что что-то происходит, или какое-то действии, или… всегда в это включает «этого присутствующего», которого нельзя вычленить из формул происходящего. И этот «что» не может знать другое происходящее, какое-то «без него происходящее», и это не позволяет приблизиться к тому «действительному происходящему», к загадочной «вещи в себе». Но, с другой стороны, а как понять присутствие вот этого «чего-то неизменного», но одновременно и тех изменений, что происходят с ним, присутствуя в них, то есть «изменяясь», но при этом «оставаясь тем же»?
Философы, например, Аквинский, Кант и другие, считали, что у человека нет возможности понять «ничто» как какое-то «что», то есть какие-то положительности из нашего «что», переносимые к «ничто», воспроизводят какую-то негативную метафизику.
Возможно, что каждое ставшее «что-мышление»34 указывает на какое-то «другое мышление», которое стоит за этим мышлением, на какое-то «ничто-мышление», на какое-то «мышление из ничто», откуда происходит это «что-мышление». Конечно, можно сказать, что «ничто» – это какое-то бессознательное, какое-то до-мышление, пред-мышление, которое включает в себя вот это «что». Или бессознательное до-мышление, возможно, тоже происходит с «включением нас»? И, возможно, это наше до-мышление, в котором нет нас, связано с тем возможным бесконечным неизвестным «ничто»?
Возможно ли, что после каждого разворачивания «что» в нем присутствует «что-то оттуда», из какого-то неизвестного «великого ничто»? И это привнесенное как-то влияет на то, что сейчас разворачивается? И возможно ли, что «уход в ничто» от «этого что» тоже несет в себе какие-то содержательности?
Откуда приходят конкретные «что-мысли»? Они приходят из того «глубинного ничто» или их начало где-то в каком-то «что-бессознательном»?
Можно предположить какую-то «связь» «ничто», которая стоит за явленным мышлением, и «вещи в себе», какие-то негативные схемы дух – тело, тело – дух, тело – мир, мир – тело…
И действительно ли, что все «разговоры о ничто» всегда о каком-то одном и том же «ничто»? И может ли «ничто» быть разным?
И почему, для того чтобы начать «какое-то нечто», нужно сначала броситься в «какое-то ничто»? И такой бросок может обрушить какое-то «конкретное нечто» и не создать ничего после…
Является ли банальным мистицизмом какой-то «разговор о ничто»? В каком-то смысле да, как и любой «разговор не о представленном в опыте предмете». То есть это всегда разговоры на грани какого-то условного мистицизма. Но и вся математика в таком же смысле, как и другое, это сплошная мистика…
Значительный пласт «чего-то про ничто» присутствует у Кожева с его рассуждениями о том, что если рассмотреть разные «глубокие разговоры о ничто», то в итоге окажется, что это все достаточно схожие разговоры… И между такими разговорами будет присутствовать какая-то незначительная разница.
Что-то о языке
Что можно сказать о так называемом «языке»? Какие могут быть «мысли о языке», точнее, очередные «упрощения»? Остановимся на следующем:
Язык – это выдумка, изобретение. Предположительно человек для определения чего-то происходящего может изобретать отдельные слова, но мог ли человек выдумать весь язык в целом? Если язык – это не дар неведомых сил, и если явное мышление – это, возможно, не нечто выпавшее из трансцендентного, тогда и язык – это выдумка человека, а явное мышление – это результат какого-то усилия, напряжения, труда. Каким же был такой труд и как происходили такие усилия? Что дает нам утверждение, что мышление и язык возникли в результате усилий, а не дара? Или любой дар – это и есть усилие? Усилие для того, чтобы вырвать нечто, некий дар у богов?
И если предположить, что такие усилия были возможны потому, что есть такая возможность, то откуда вот эта возможность?
И если язык – это выдумка в пределах возможного… мышления, тогда если взять какие-то целые конструкции, их образование, то как представить себе их возникновение, образование, развитие, но еще сложнее выделить такие «обязательные конструкции» языка, какие-то единицы, кирпичики, из чего можно соорудить любой язык. Выдуманные слова о каких-то предметах быта или о чем-то, что двигалось перед взором древнего охотника – это предположение о том, как возникал язык. А что есть слова о разном, совершенно непредметном, о каких-то переживаниях, о каком-то пережитом, о каком-то случающемся или о том, что не случится – как возник вот этот весь «объем»35 языка? И такой «объем» даже без особой подготовки почему-то понятен тому, кто получил «некий доступ» к тому или иному языку, который отражает какое-то мышление, и тут опять круг замыкается. И если «выдумать мог», то выдумка была возможна «в пределах того, что можно выдумать», но почему пределы это позволяют, откуда эти пределы, а могут ли такие пределы позволить нечто другое? Что есть эти «пределы»? А дальше вопросы только нарастают…
Язык – это результат взаимодействия происходящего и мышления. Возможно, что язык присутствует как результат взаимодействия мышления с происходящим, то есть при взаимодействии мышления с самим собой, с другим, с чем-то глобально-присутствующим. И если нет такого происходящего, нет процесса, нет движения, нет развития, нет производства присутствия, производства материальной среды, освоения и воспроизводства, научного, политического и другого освоения реальности, то зачем понятия и зачем язык? То есть если присутствует какое-то тотальное завершение, какое-то сворачивание, какая-то катастрофа, какая-то гибель, гибель мышления, тогда зачем «инструмент реализации» мышления? Возможно, что никакие выдумки не помогают в таком смысле, то есть сначала процесс, а потом язык, ну или одновременно.
Почему некоторые языки становятся мировыми, а другие нет? Как язык связан с войной, торговлей и освоением пространства, с какой-то субъектией, с каким-то служением чему-то, с какой-то целью?
Странный «привкус» языка, акт присутствия и мышление за языком. Когда идет разговор на родном языке, в какой-то момент исчезает «привкус языкового присутствия». Языковая среда становится чем-то незаметным при таком включении присутствия, то есть рассматривая язык как способ выражения мыслей, при этом переставая замечать его, возникает иллюзия того, что за языком ничего нет, но само присутствие тут и сейчас – это, возможно, не только язык. И возможно, что какой-то «акт присутствия» не равен языку. Возможны ли допущения, что язык – это способ выражения мышления, то есть само мышление существует как-то, но не как явленный язык? Но и само мышление тоже, возможно, не равно «акту присутствия». «Такой акт», возможно, «больше» всего этого – и выявляемого, и не выявляемого; и он включает в себя разное, в том числе и какое-то скрытое мышление, которое затем выражается в каком-то конкретном языке.
«Странность», которую замечает «включенность», выявляется при произнесении любых «слов» другого языка, которые могут ничего не значить для данного мышления, когда звучат в сознании неродные слова, сложенные в какие-то предложения, и они не становятся адекватными мышлению. Но для «определения такого» в языке присутствует какая-то «языковая форма определения любой абракадабры», любого птичьего языка и даже не языка, то есть различных образов-ощущений-включений-присутствий. И механизм «определения любой абракадабры» в «нечто» – это не сам язык, а другой, какой-то иной механизм. Но какой?
И что такое этот механизм, позволяющий словам приобретать какие-то другие значения, новые значения, утрачивать значения? Можно долго доказывать, что явленное мышление всегда происходит на каком-то конкретном языке и с помощью каких-то конкретных понятий, но так ли это? Или, возможно, есть уровни, на которых все происходит иначе, и там, возможно, есть какое-то загадочное мышление без этого остывания в словах?
Язык как связь… Что связывает происходившее и происходивших сотни тысяч лет тому назад с тем, что происходит сегодня, и с теми, кто происходит сегодня? Возможно, такая связка – это язык, который указывает на какое-то мышление за ним, которое менялось все это время или не менялось? А, возможно, изменялся только способ проявления мышления, способ конкретизации мышления – язык, мораль, нравственность, понятия, события, привычки, стремления…, а то мышление оставалось и остается неизменным? Возможно, что «связь» с тем мышлением присутствует постоянно, и отрицание такой связи может быть. Но чем является или не является это мета-мышление, находящееся вне всякого присутствующего, но и являющееся каким-то присутствием, связывающее тех, кто был, тех, кто ушел, тех, кто есть сейчас, и тех, кто еще не пришел? Возможно, что такое метамышление – это только гипотеза, но что дает предположение такой метафизической величины или даже величин, какого-то «мета», находящегося за всем этим тут происходящим?
Субъективность языка. Человек не может избавиться от субъективности языка. Все происходящее наделяет этим активным началом, и все оживает и начинает действовать… Так возникает идущий куда-то Мир, живущая в Мире Природа, уставшая от всего Земля, двигающее все куда-то Время…, определяющие все Законы (Природы), а иногда даже Естественные Законы…
Язык – это способ говорить, о чем угодно, способ осуществлять любую дискуссию о любой проблеме, способ оформления решения любой задачи… Но само мышление о решении задачи как происходит? Почему многое из такого происходит не с помощью операций формальной логики или, допустим, анализа или синтеза, а на каких-то других уровнях? При этом разговоры про то, что это происходит как обычное явленное мышление, но слишком быстро, – это ничто… это способ не говорить о проблеме.
Язык – это способ подключения куда-то или включения «в куда-то». Но если это «в куда-то» не производит мыслие, такое включение бесполезно, и через время все устремятся туда, где есть «в куда», есть мышление, есть процесс, есть развитие и реальность. Умирающая реальность не производит ничего, и все языки пытаются покинуть территорию поражения, и если не могут, то они исчезают, и только загадочные новые устремления, новый скачок за непонятный горизонт порождают нечто новое в языке.
Даже мертвые языки могут быть способом подключения к чему-то, к какому-то мыслию, которое возникло в результате похода «в куда».
Тайна духовного, мышления, ментального, сознания