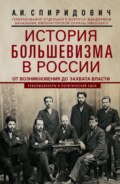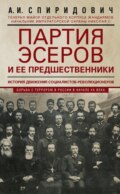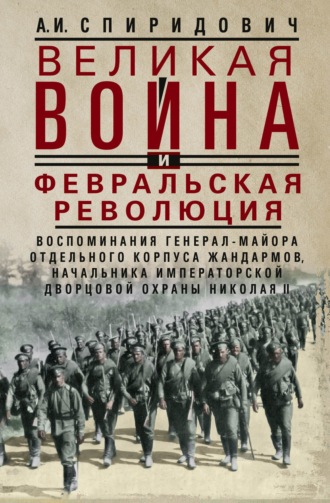
А. И. Спиридович
Великая война и Февральская революция 1914–1917 гг. Воспоминания генерал-майора Отдельного корпуса жандармов, начальника императорской дворцовой охраны Николая II
Эта сплетня о плане заточения императрицы распространялась среди обслуживавших государя лиц еще в прошлый майский приезд в Ставку и шла из купе князя Орлова. В ту поездку князь Орлов позволил себе как-то особенно резко бранить государыню, не стесняясь тем, что в соседних вагонах находился сам государь, а нехорошие эпитеты слышали не только собеседники князя, но и прислуга, и фельдъегерские офицеры, вертевшиеся тут же в его купе-канцелярии.
Это вызывало тогда большие разговоры. При дряхлости министра двора никто не мог воздействовать на князя.
В один из вечеров этого пребывания в Барановичах генерал Дубенский, большой патриот и не менее большой болтун, настойчиво предложил мне прокатиться на автомобиле, так как ему, кстати, надо кое-что мне сказать. Когда мы отъехали довольно далеко, генерал исподволь, осторожно стал рассказывать мне, что существует план заточения императрицы в монастырь. Что замысел этот идет из Ставки и что к нему причастен князь Орлов, что особенно и озадачивает его, Дубенского. А князь даже рассказывал это, по секрету, конечно, лейб-хирургу Федорову. От Федорова это услышал Дубенский, и вот он считает, что это надо бы доложить дворцовому коменданту. Я слушал молча, обдумывая, как выйти перед Дубенским из щекотливого положения, создаваемого рассказом, в котором была доля правды, о которой уже знал Воейков.
«Что за вздор, Димитрий Николаевич, – сказал я наконец. – Заточить царицу в монастырь при живом-то государе? Да разве это возможно? А как же с государем-то будет? Ведь это же заговор, революция…»
Дубенский молчал. Видимо, он не ожидал, что я буду реагировать именно таким образом. Мы перевели разговор на другое, порешив, что все это сплетни, и так вернулись к нашему поезду.
Но я был встревожен. Выступать перед дворцовым комендантом с официальным докладом по поводу только что услышанного – это значило обвинять близкое государю лицо по свите в государственной измене. Для этого надо было иметь более веские данные, чем рассказ Дубенского, к словам которого мы привыкли уже относиться с большой осторожностью. Мы прежде всего помнили, что это писатель-журналист. Воейков же просто его не переваривал, а он боялся дворкома[54] как огня. К тому же я знал, что дворком (Воейков) уже осведомлен об этих слухах.
Слух о заточении сделался достоянием всей свиты. Знала о нем и прислуга. Дошло и до их величеств. Знали дети. Лейб-хирург Федоров лично рассказывал мне (и другим), что, придя однажды во дворец к больному наследнику, он увидел плачущую великую княжну Марию Николаевну. На его вопрос, что случилось, великая княжна сказала, «что дядя Николаша хочет запереть МамаR в монастырь». Сергею Петровичу пришлось утешать девочку, что все это, конечно, неправда.
В тот же прошлый приезд в Барановичи уже было обращено внимание на странную дружбу, возникшую у князя Орлова с великим князем Николаем Николаевичем. Будучи в Барановичах, князь Орлов каждый день ходил к великому князю, часто с портфелем, и иногда они ездили вместе кататься на автомобиле. Все это знал и видел из окон своего вагона государь. Он не скрывал иногда тонкой иронии, указывая лицам свиты за пятичасовым чаем на уезжающих друзей.
Знавшим характер государя было ясно, что эта новая дружба не очень нравится государю.
Слухи о какой-то интриге, которую как бы боялись называть своим настоящим юридическим термином, то есть заговором, были столь настойчивы, что даже такой осторожный и тонкий человек, как Мосолов, и тот имел беседу с графом Фредериксом. Последний не хотел верить в серьезность слухов, называл их сплетнями, и тогда так и решили во дворце, что это великосветская сплетня, пущенная князем Орловым. Ему приписывали много удачных острот и словечек.
Но вот теперь, в настоящую поездку, в настоящий момент, в связи с пришедшими из Москвы сведениями об устранении государя, слух о заточении императрицы приобретал большой смысл и получал серьезный характер.
Тогда же я получил письмо-доклад из Петербурга, где мне достоверно сообщали, что в кружке А.А. Вырубовой уже имеются сведения о заговоре, о том, что хотят использовать великого князя Николая Николаевича, что государыня хорошо осведомлена об интригах и что уехавший 15-го числа на родину Распутин советовал остерегаться заговора и «Миколы с черногорками». Из Царского мне писали, что настроение императрицы болезненное, пасмурное, нервное. Что царица недовольна всем, что произошло в Ставке, что она рвет и мечет на Орлова, Дрентельна, Джунковского.
Тогда мы, люди, стоявшие близко к делу, особенно сильно жалели, что на посту министра двора был уже неработоспособный, дряхлый, угасавший с каждым днем граф Фредерикс. Ему было более 77 лет. В течение дня он мог работать в полном уме только каких-нибудь два часа и то в определенное время. И его рвали в это время на части для подписи нужных распоряжений. Его функции по частям исполняли разные лица свиты, но они не имели права делового доклада по ним государю, и их частные доклады походили скорее на интриги. В свите был развал. За князем Орловым тянулся полковник Дрентельн. Получалось дикое ненормальное положение: самая ближайшая царю его часть – Военно-походная канцелярия – была в оппозиции к государю и его семье, а ее главный начальник – главнокомандующий императорской главной квартирой, Фредерикс, который по должности министра двора должен бы и объединять, и руководить всей свитой, – был развалина.
Наш дворцовый комендант Воейков отлично понимал и всю ненормальность, и всю серьезность тогдашнего положения, и он горой встал за государя и царицу, хотя и понимал отлично их ошибки, особенно в отношении Распутина.
Воейков был настороже, и это дало мне право записать тогда в мой дневник и сообщить в письме в Москву следующее: «Мы знаем все, что надумали в Москве на съезде, и если правительство, вернее – его величество, идет навстречу общественным кругам, то очень ошибаются демагоги вроде Гучкова, думая, что им удастся государственный переворот. Это учитывается, кому надо – тот начеку».
В те дни погода стояла теплая, даже знойная. Лето было в расцвете. Дивно хорошо. Почти каждый день государь перед чаем выезжал прокатиться в автомобиле или гулял пешком. Его сопровождали обычно: Воейков, Саблин, Дрентельн, Граббе, Федоров.
На 22-е было предположено проехать в Беловеж. Государь был там последний раз в 1912 году. Теперь там был новый заведующий – господин Львов[55], женатый на сестре Штюрмера. Старый управляющий Голенко, получивший повышение в Москву, оставил по себе память устройством после 1912 года отличного музея.
В 1913 году в Беловеже охотился, как гость его величества, князь Монакский Альберт. Он остался в восторге от пущи и ее охоты, убил несколько зубров, скелеты которых подарил французской и английской академиям. После него охотился великий князь Николай Николаевич, а на 1914 год государь предполагал пригласить на охоту императора Вильгельма. И вот война…
Как все это меняется, так припоминал я, едучи 22-го рано утром в Беловеж на автомобиле гофмаршальской части, который вез заготовленный завтрак.
Быстро летели наши автомобили. Нам предстояло сделать около 200 верст, но головной шофер ошибся, и мы накрутили до 300. Последние верст двадцать путь шел по самой пуще. Красота. Лес вековой. Тишина. Прохлада. Солнышко с трудом пробивается сквозь чащу. Нет-нет да и ударит в лицо, а затем опять тень.
Наконец доехали. Поднялась суета. Государь приехал только в три часа. С фронта были получены сведения от Алексеева о немецком прорыве. Государь отменил было поездку, но, получив дополнительные сведения об успешной ликвидации прорыва, выехал. Позавтракав, осмотрели музей, много гуляли и к обеду вернулись в Барановичи. Государь был очень доволен прогулкой, и на другой день генерал Воейков передал мне лестный отзыв его величества о службе моего отряда.
Между тем войска Юго-Западного фронта, упорно отбиваясь, продолжали отступать. Отступление стало захватывать и фронт генерала Алексеева. Положение делалось все тревожней и тревожней. 27-го государь выехал из Ставки и 28-го вернулся в Царское Село.
Глава 11
Июль и август 1915 года. – Настроение императрицы Александры Федоровны. – Твердость государя в перемене курса. – Отношение общества к новым министрам. – Молебны 8 июля. – Годовщина войны. Приказ государя. – Открытие Государственной думы. – Назначение комиссии по расследованию непорядков по снабжению армии. – День 30 июля, производство гардемарин. – Назначение наследника шефом Новочеркасского Казачьего военного училища. – Государственная дума в начале августа. – Доклад генерала Джунковского о Распутине и его последствия. – Неблагополучие на фронте и мнение о нем Поливанова. – Паническое настроение генерала Алексеева. – Отступление. – Хаос в тылу. – Нарекания на Янушкевича и Николая Николаевича. – Настроения в Государственной думе. – Слухи о регентах. – Интриги против их величеств. – Женская вражда. – Царица борется за мужа и за наследника. – Отношение к интригам государя. – Решение государя заменить собою великого князя Николая Николаевича. – Отправка Поливанова с письмом к великому князю. – Отправка графа Шереметева с письмом к Воронцову-Дашкову. – Отношение Думы, правительства и общества к намерению государя. – Ходатайство о непринятии командования. – Твердость государя. – Увольнение Джунковского от должностей. – Пресса и Распутин. – Ответ графа Воронцова-Дашкова. – Перемены в Ставке. – Заседание Совета министров в высочайшем присутствии 20 августа. – В охранном отделении. – У информатора. – Государь у императрицы-матери. – Несогласия в Совете министров. – Коллективное письмо восьми министров к государю. – Открытие государем Особого совещания 22 августа. – Отъезд государя в Ставку. – Опала князя Орлова. – В поезде
Императрице Александре Федоровне нездоровилось. Она очень нервничала. Она была против только что совершившейся поездки государя в Ставку, против всего того, что сделал там государь, против нового политического курса, против новых министров. Назначение Самарина и Щербатова доводило царицу до слез. Верившая в Распутина, как в Бога, царица считала с его слов, что все, что было сделано в Ставке, – все от дьявола. Весь новый курс и новые назначения придуманы, чтобы повредить старцу, и прока из них не будет.
Хорошо только то, что делается с его совета, с его благословения, чему он, «прозорливец», помогает своими молитвами. Все, что идет вразрез с его советами, а тем более направлено против него, обречено на неудачу.
И больная государыня страдала, болела душою, старалась направить своего августейшего супруга на правильный, по ее мнению, путь, с которого его сбили враги «Друга», враги «Божьего человека», а следовательно, и враги государя и России, люди, идущие против самого Бога.
Из далекой Сибири приходили не всегда ясные телеграммы, которые были понятны только его духовным ученицам, кто верил в него, как в прозорливца. Распутин поехал в Сибирь со своим другом Варнавой, архиепископом Тобольским. Варнава прислал 20-го числа царице такую телеграмму: «Родная государыня, 1-го числа, в День святителя Тихона Чудотворца, во время обхода кругом церкви в селе Каробийском, вдруг на небе появился крест. Был виден всем минут 15 и так, как святая церковь поет: „Крест царей, держава верных утверждение“, – то и радую вас сим видением. Верую, что Господь послал это видение-знамение, дабы видимо утвердить верных своею любовью. Молюсь за всех вас».
Около больной царицы все пожелания и предсказания старца истолковывались зоркой охранительницей его интересов А.А. Вырубовой. Она была в постоянных с ним сношениях. Их интересы были общие. Накануне его отъезда она впервые после своей болезни выехала из дому. Теперь все более и более оправляясь, она с увеличивающей энергией начинала работать на старца. Ей помогали и фанатичные поклонницы старца, и те спекулянты военного времени, которые коммерчески старались использовать его.
Но государь был тверд в проведении нового курса, который он считал полезным для дела войны. Вслед за назначением Поливанова и Щербатова он заменил Щегловитова Александром Хвостовым, а обер-прокурора [Святейшего синода] Саблера – Самариным. Все эти новые назначения были приняты обществом с радостью.
Генерал Поливанов давно считался сторонником и любимцем Государственной думы. Даже враги отдавали справедливость его уму, знаниям и работоспособности, хотя и считали его большим интриганом.
Князь Щербатов пользовался большим уважением в общественных кругах, слыл за хорошего человека. В члены Государственного совета он был избран от земства. О том, подходит ли он к должности министра внутренних дел, общество, конечно, не думало. Но надо отдать ему справедливость, что он сразу же понял, что генерал Джунковский совершенно не соответствовал посту товарища министра, заведовавшего полицией, и сразу же стал думать, как бы ему найти повод для почетного ухода.
Александру Хвостову, который был членом Государственного совета и сенатором, радовались, прежде всего потому, что он заменил Щегловитова, которого недолюбливала либеральная общественность и ненавидели все евреи. Явные и тайные революционеры понимали, что Щегловитов, умный и железной воли человек, мог бы в нужный момент задушить какую угодно революцию, лишь бы ему дали вовремя соответствующую власть и права. Поэтому его уходу и радовались. Радовались еще и потому, что его считали сторонником Распутина. Последнее было совершенно неверно.
Щегловитов совершенно игнорировал старца, никаких его просьб не исполнял и тем навлек на себя даже нерасположение царицы, как человек черствый и жестокий. Но кто-то пустил сплетню, что он распутинец, и этому верили.
Но в хороших общественных кругах больше всего радовались назначению обер-прокурором Святейшего синода Самарина. Александр Димитриевич Самарин, член Государственного совета, московский предводитель дворянства, сын известного славянофила, был образованный, дивной души, независимого образа мыслей, чисто русский, православный человек. Самарин пользовался большим уважением в Москве и уважением дворянства всей России. Считали, что он внесет новую, светлую струю в управление церковью и сумеет парализовать попытки влияния на ее дела со стороны приверженцев Распутина. Сразу же пошли легенды, что он принял пост под условием, чтобы Распутин навсегда покинул Петербург и т. д. Никаких таких условий он не ставил, но они так отвечали желаниям общества, что легенде верили и ей безмерно радовались.
При таком хорошем общественном настроении 8 июля по всей России были отслужены торжественные молебны с крестными ходами о даровании победы, а 19 июля состоялось открытие сессии Государственной думы. Оно явилось триумфом генерала Поливанова, выступление которого имело большой успех. В тот же день был опубликован высочайший приказ по армии и флоту, подбодрявший войска на новые испытания, жертвы и подвиги.
27 июля были сделаны новые шаги навстречу общественности. Товарищем министра внутренних дел был назначен товарищ председателя Государственной думы князь Волконский.
Это назначение, конечно, было не деловое, а только политическое (домашнее) и удивило многих не в пользу князя Щербатова. В тот же день Поливанов заявил, в закрытом заседании Государственной думы, о назначении по высочайшему повелению Верховной комиссии с участием представителей от законодательных учреждений для расследования непорядков по снабжению армии. Заявление было встречено восторженно. Поливанову устроили настоящую овацию. Это был, конечно, прежде всего удар по Сухомлинову.
Вражда к нему со стороны Ставки, со стороны политических врагов, как Гучков и другие, была настолько велика, что не обращали внимания даже на то, что подобный шаг прежде всего наносил удар нашему престижу в глазах союзников. Что всякое преследование теперь, во время войны, преждевременно и неуместно. Умные интриганы делом Мясоедова валили Сухомлинова, а через голову последнего наносили удар и по трону. Но [великий князь] Николай Николаевич и Поливанов были очень мстительны, а государь не отдавал, видимо, отчета себе, как может развернуться это дело. Некоторые правые вспоминали, как сдал он, государь, в свое время П.Н. Дурново, Владимира Трепова, Курлова. Теперь сдает Сухомлинова…[56]
30 июля, в день рождения наследника, государь оказал новую милость казачеству. Наследник был назначен шефом Новочеркасского Казачьего военного училища. Оказано было внимание и столь любимым морякам. В этот день, утром, перед Царскосельским большим дворцом государь произвел гардемарин в офицеры. Государь обошел фронт с наследником и сказал молодежи небольшую, но весьма прочувственную, простую задушевную речь. «Верьте, – сказал он между прочим, – как бы ни были тяжелы времена, которые переживает наша родина, она все же останется могучей, нераздельной и великой, какой мы привыкли ее видеть с детства».
Затем государь поздравил гардемарин, [ставших] офицерами.
Август месяц начался нехорошо. 1-го числа в Государственной думе кадет Аджемов, социал-демократ Чхенкели и социалист-революционер Керенский произнесли резкие против правительства речи, а председатель правых, бывший нижегородский губернатор Алексей Хвостов, говоря о немецком засилье, смешал с грязью Министерство внутренних дел и высмеял непригодность ушедшего Маклакова и оставшегося Джунковского. Речь этого правого депутата, как он сам говорил про себя – «человека без задерживающих центров», по резкости и по нападкам на власть была гораздо хуже речей левых и потому произвела на всех особенно сильное впечатление. Было в ней что-то не только демагогическое, но даже страшное для власти.
4-го числа произошло событие, коснувшееся Распутина, а потому всполошившее и его сторонников, и противников.
Одним из ярких антираспутинцев считался генерал Джунковский, про которого даже говорили, что он как-то побил Распутина, что, конечно, являлось полнейшим вздором, но когда об этом спрашивали генерала, то он в ответ только загадочно улыбался – понимай как хочешь.
Оба они, министр и его помощник, после знаменитого скандала у «Яра», в общем, ничего неприятного старцу не сделали. И вот теперь, четыре месяца спустя, 4 августа, Джунковский, воспользовавшись правом всеподданнейшего доклада по делам полиции, сделал государю в Царском Селе доклад о старце, взяв за основу скандал у «Яра».
Джунковский состоял в правительстве и в свите государя, но по существу оставался москвичом, принадлежавшим кружку великой княгини Елизаветы Федоровны. Там были все его воспоминания по приятной службе при великом князе Сергее Александровиче по губернаторству, по его личным, общественным и сердечным симпатиям. Оставшаяся при Елизавете Федоровне его сестра Евдокия Федоровна[57] являлась его живой, физической связью с Москвой.
И вот теперь, действуя в полном идейном согласии с главными московскими антираспутинскими кружками, с одной стороны, с другой же стороны, не будучи связан с Маклаковым, который ушел, и поддавшись вновь (как в 1905 году) поднимающейся волне общественного движения, главным истоком которого была опять-таки Москва, Джунковский решил выступить против Распутина. При Маклакове он получил право доклада государю по делам охраны его величества, так как жандармерия (а он был командиром Корпуса жандармов) охраняет государя при его следованиях по железным дорогам. Будучи принят 4 августа, он и сделал доклад, но только не по охране, а про Распутина.
Изложив биографию и характеристику Распутина со всеми его дамскими похождениями до скандала у «Яра» включительно, что было изложено особенно подробно, генерал объяснил, насколько Распутин вредит престижу власти, церкви, государю и его семье. Все враги монархии, режима стараются использовать имя старца в борьбе с правительством, и поведение Распутина дает им отличное и полезное оружие. Доклад продолжался долго. Окончив его, генерал оставил государю письменный доклад.
Вышедши с доклада, Джунковский был очень взволнован.
Сев в автомобиль, где его ждал секретарь Л.А. Сенько-Поповский[58], составлявший письменный доклад, приказал ехать в Петербург. Взволнованный генерал передал, что государь выслушал доклад очень внимательно. Он предлагал вопросы и после окончания доклада очень милостиво поблагодарил генерала, сказав, что он впервые слышит всю эту правду, что он очень рад узнать правду, и просил генерала и впредь докладывать ему все про Распутина, но только чтобы он держал это в полном секрете.
Рассказывая про доклад, Джунковский был счастлив, что ему удалось так успешно выполнить долг не только перед их величествами, но и перед родиной. Генерал был в таком приподнятом, восторженном патриотическом настроении, что оно передавалось и захватило даже Сенько-Поповского, тем более что он много работал по составлению доклада.
В тот же день они оба выехали в Москву, где должны были быть на освящении чьей-то церкви.
Устный доклад Джунковского действительно произвел на государя большое впечатление. Государь очень рассердился и приказал, дабы Распутин немедленно выехал на родину. Это повеление было передано через Вырубову. Никогда, по словам Распутина, государь не сердился на него так сильно и долго, как сердился после того доклада Джунковского. И 5 августа Распутин выехал в Покровское.
А.А. Вырубова с сестрой привезла его на вокзал в автомобиле. Группа поклонниц проводила его. Несколько филеров Охранного отделения, которые наблюдали за ним, выехали вместе с ним.
Некоторые думали, что на этот раз Распутину пришел конец, но напрасно. Друзья старца дружно поднялись на его защиту. В Москву для проверки сообщенных Джунковским сведений о скандале у «Яра» был послан, неофициально, любимец царской семьи флигель-адъютант Саблин. Туда же выехал с той же целью и пробиравшийся в доверие к Анне Александровне Белецкий. Стали собирать справки. Уволенный московский градоначальник Андрианов сообщил оправдывающие старца сведения. Он переменил фронт. Все делалось тихо и секретно, по-семейному.
На фронте было неблагополучно. Отступление наших войск продолжалось. Отступательное настроение Юго-Западного фронта передалось и Северо-Западному. Главнокомандующий последним генерал Алексеев, главным советником которого являлся состоявший при нем генерал Борисов (личность довольно загадочная и неясная), все больше и больше проникался идеей отступления. В первой половине июля это его настроение настолько не соответствовало настроению подчиненных ему высших начальников, что из нескольких военных центров в Ставку была послана полная информация о неправильности действий генерала Алексеева и о непригодности его к его роли. Великие князья Кирилл Владимирович и Андрей Владимирович, по просьбе фронтовых начальников, докладывали о том, какое паническое впечатление производят распоряжения и действия генерала Алексеева.
В Ставке царила растерянность. Николай Николаевич был величина декоративная, а не деловая. Уже в половине июля генерал Поливанов, выдвинутый на свой пост Ставкой, сделал в Совете министров доклад об этой растерянности и охарактеризовал деятельность Ставки очень резко и нелестно. «Назад, назад и назад – только и слышно оттуда, – говорил Поливанов. – Над всем и всеми царит генерал Янушкевич… Никакой почин не допускается… Молчать и не рассуждать – вот любимый окрик из Ставки… Печальнее всего, что правда не доходит до его величества… Повторяю, господа: отечество в опасности», – закончил свой потрясающий доклад Поливанов.
В половине июля немцы перешли Вислу. 22-го мы оставили Варшаву, а 23-го Ивангород. Начались атаки Осовца. Генерал Алексеев окончательно растерялся. Его паническое настроение настолько развращающе действовало на окружающих, что у штабных офицеров возникла мысль убить генерала Алексеева ради спасения фронта. Великому князю Андрею Владимировичу пришлось долго убеждать офицеров не делать этого, дабы не вносить еще больше беспорядка.
4 августа пала крепость Ковно[59]. Комендант бежал. Сдача Ковно подняла слухи об измене. Ставка так сама приучила к тому, что всякую ее неудачу объясняли какой-нибудь изменой, чего на самом деле не было, что и теперь этой новой сплетне верили.
6 августа сдался Новогеоргиевск. В этот день Поливанов заявил в Совете министров: «Военные условия ухудшились и усложнились. В слагающейся обстановке на фронте и в армейских тылах можно каждую минуту ждать непоправимой катастрофы. Армия уже не отступает, а попросту бежит. Ставка окончательно потеряла голову…»
10 августа пал Осовец. Эвакуировали Брест-Литовск. Ставка Верховного главнокомандующего перешла из Барановичей в Могилев. При отступлении срывается с мест мирное население и гонится внутрь страны.
Отовсюду, с Запада на Восток, идет насильственная эвакуация еврейского населения, которое заподозрено в массовом шпионаже на немцев. Все эти русские и еврейские беженцы, как саранча, двигаются на Восток, неся с собою панику, горе, нищету и болезни. Благодаря отступлению театр военных действий, как таковой, увеличивается и автоматически переходит под власть военных. Новая власть не успевает организоваться, всюду беспорядок, хаос. Имя генерала Янушкевича на устах у всех, его ругают все – и статские, и военные, а еврейское население его просто проклинает. Популярность великого князя Николая Николаевича падала с каждым днем. В Петербурге и в правительственных кругах винили во всем Янушкевича, которого больше всех валил теперь своими потрясающими докладами генерал Поливанов, а ему верила вся общественность. Его называли даже как желательного премьера на место Горемыкина.
Тяжелое положение усугублялось поведением Государственной думы, которая вместо того, чтобы помогать правительству, играла в оппозицию и сеяла смуту, стремясь к расширению своих прав. Дума хотела добиться ответственного министерства, что прикрывалось пока фразами о правительстве «пользующемся доверием страны». Из Думы муссировались слухи, что царица хочет сепаратного мира. Говорили о желательности регентства великого князя Михаила Александровича.
Слухами этими очень растравляли и без того подозрительную и мало кому доверявшую царицу. Царице передавали, что главная интрига против их величеств ведется в Киеве, где над ней работают великие княгини, сестры-черногорки. Они мечтают видеть на престоле великого князя Николая Николаевича. Одна из весьма пожилых, почтенных придворных дам, игравшая когда-то роль при дворе, была принята великой княгиней Милицей Николаевной. Последняя так резко выражалась о царице, что почтенная дама заметила, что она не может продолжать разговора, если великая княгиня не прекратит своих резкостей. Конечно, все это женскими путями доходило до царицы.
Великие княгини, сестры-черногорки, когда-то подруги царицы и поклонницы Распутина, теперь ненавидели царицу, и она отвечала им тем же. Сестры добивались возвышения Николая Николаевича. Царица со всем жаром любви к мужу и сыну защищала их и их права. И она толкала государя на защиту их. Она раскрывала интриги и настаивала на принятии против них мер.
Нервно больная, религиозная до болезненности, она в этой борьбе видела борьбу добра со злом и в этой борьбе опиралась на Бога, на молитву, на того, в чьи молитвы она верила, – на старца.
Старец же, которому великие княгини Анастасия и Милица Николаевны когда-то кланялись до земли и целовали руку, которого они когда-то рекламировали, а еще не так давно защищали от полиции, мстил им. Мстил им с той же горячностью, с какой они теперь вредили ему за то, что он не оправдал их надежд и променял их на Вырубову, которую они же познакомили с ним. Да и его-то, старца, не кто иной, как они продвинули к их величествам.
Государь знал обо всех этих замыслах, но, видимо, не верил им. Безусловно, не верил он и в то, что Николай Николаевич принимает в этом личное участие, хотя Маклаков, будучи министром, докладывал ему о секретных сношениях великого князя с Гучковым; перед самым своим уходом доложил о перехваченном письме Гучкова к великому князю, письме, которое очень компрометировало их обоих и о котором в то время много говорилось в свите.
Знал государь и обо всех забеганиях в Ставку некоторых министров, о вмешательстве Ставки в дела внутреннего правления, знал, как все больше и больше зазнавался в сношениях с министрами Янушкевич, и понимал, что все это не могло делаться без ведома великого князя.
Выше уже говорилось, как относился государь к странной дружбе великого князя и князя Орлова. В результате доверие государя к великому князю пошатнулось. К Орлову оно совсем пропало. Был заподозрен полковник Дрентельн (когда-то очень друживший с А.А. Вырубовой). С ними связывали Джунковского.
Но пока дело касалось лично государя, как монарха, пока дело шло о личных против него интригах, государь, большой фаталист и человек, искренно веривший в верность армии и ее начальников, не выражал намерения принимать какие-либо предупредительные меры. Но когда разраставшаяся катастрофа на фронте стала угрожать чести и целости России, государь вышел из своей казавшейся пассивности.
Отлично осведомленный обо всем, что делалось в Ставке, в армиях, в тылу, хотя правду часто старались скрыть от него, болея, как никто, за неудачи последних месяцев, государь после падения Ковно решил сменить верховного главнокомандующего и стать во главе армии.
Оставлять великого князя с его помощниками на их постах было невозможно. Заменить его каким-либо, хотя бы и самым способным, генералом нельзя было без ущерба его достоинству, как члена императорского дома. Выход был один – верховное главнокомандование должен был принять на себя сам государь. И в сознании всей великой ответственности предпринимаемого шага, в сознании лежащего на нем долга перед Родиной, ради спасения чести России, ради спасения ее самой государь решился на этот шаг в критическую минуту войны.
Решение было задумано, зрело продумано и принято государем по собственному побуждению. Принимая его, государь исходил из религиозного сознания долга перед Родиной, долга монарха – ее первого слуги и защитника.
В своем решении государь находил опору в царице Александре Федоровне. И если государь смотрел на предстоящий шаг с точки зрения интересов России и войны, то государыня видела в нем также и предупреждение государственного переворота, задуманного против ее августейшего супруга, против ее любимого сына.
8 августа военный министр Поливанов выехал по повелению государя в Могилев, куда была переведена Ставка Верховного главнокомандующего с письмом от его величества к великому князю.