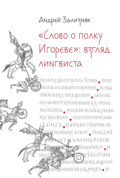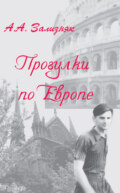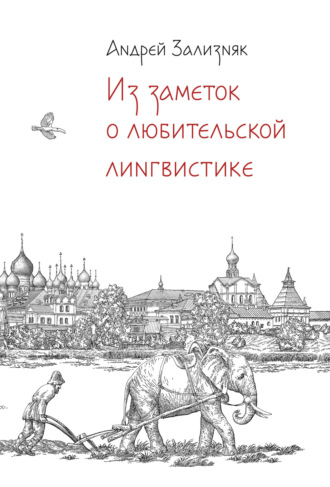
А. А. Зализняк
Из заметок о любительской лингвистике
Фантазии о значениях слов
В ходе эволюции языка могут изменяться не только внешние оболочки слов, но и их значения. Семантические переходы, т. е. изменения значений слов, подчиняются определенным закономерностям. Правда, эти закономерности пока еще не столь полно изучены лингвистами, как закономерности фонетических изменений. Но неограниченной свободы в этой сфере безусловно нет.
Между тем в любительских построениях гипотезы о переходе одних значений в другие не знают практически никаких ограничений.
Здесь следует принять во внимание то, что людям вообще свойственно быстро и без затруднения придумывать некую возможную связь (или возможную ситуацию взаимодействия) между почти любыми двумя случайно оказавшимися в соседстве понятиями. Например, люди без труда справляются с заданиями типа «Придумайте словосочетание или фразу, где участвуют два слова, которые вам сейчас будут указаны». Эти слова могут быть из чрезвычайно далеких друг от друга семантических сфер, например: дурак и остановка, брать и солёный. Без долгих размышлений люди дают ответы вроде: Дурак говорит без остановки; Беру соль из солёного моря. Читатель легко может устроить себе самому подобный тест и убедиться в том, что практически невозможно найти такие два слова, для которых сочинить требуемую фразу не удалось бы.
В силу этой способности человек нередко переосмысляет непонятное слово (например, иностранное), «подправляя» его так, что в нем начинают звучать понятные ему морфемы и тем самым слово приобретает для него (хотя бы частично) некоторую внутреннюю мотивированность. А смысловая связь с общим значением слова примысливается тем же способом, как в указанном выше тесте. Это так называемая народная этимология.
В некоторых случаях народная этимология проникает и в общенародный язык. Например, древнее слово близозоро́кий (буквально: 'обладающий близким зрением', от зо́рокъ 'зрение', ср. зракъ, про-зрач-ный) со временем фонетически упростилось в близоро́кий (в силу утраты одного из двух одинаковых слогов зо). В этой новой форме элемент рок- был уже непонятным, и говорящие часто заменяли его на понятное рук- от рука; в результате слово получило вид близору́кий. Ясно, однако, что 'обладающий близкой рукой' – это бессмыслица, причем никак не связанная с общим значением зрения лишь на близком расстоянии (которое у слова, конечно, сохранялось). Поэтому здесь возникло другое осмысление, приблизительно: 'видящий близко, лишь на расстоянии своей руки'. И поныне русский человек, если попросить его объяснить, почему данное свойство называется близорукостью, обычно предлагает примерно такое осмысление.
См. также ниже (в главе 2, в разделе «Любительские поиски происхождения слов») примеры наивно-поэтического осмысления слов в Библии.
Описанное обстоятельство помогает понять, почему проблемы значения практически никогда не затрудняют лингвистов-любителей. Сталкиваясь с необходимостью перейти от одного значения к другому, любитель, не отягощенный знанием никаких закономерностей семантических переходов и тем самым ничем не ограниченный, действует ровно таким же способом, как в описанном выше тесте, и с такой же легкостью получает некоторое решение.
Читатель мог заметить, что пара «дурак и остановка», взятая как пример двух случайно соединенных слов, – это не что иное, как форма и значение турецкого слова durak 'остановка', упомянутого выше. Любителю ничего не стоит сочинить какую-нибудь сказку о том, как возникло это турецкое слово, например: «Это турки взяли русское слово дурак, а поскольку дурак – это остановка ума, то у них оно стало значить 'остановка'». Ниже мы увидим немало примеров того, как любители изобретают подобные детски наивные объяснения.
Легкость, с которой любитель придумывает смысловую связь между почти любыми двумя значениями, чрезвычайно расширяет его и без того богатейшие возможности в деле объявления произвольных двух слов «соответствующими» друг другу. Так, и в приведенной выше группе примеров с полным совпадением звучаний (stradali 'дорожные', costi 'цены' и т. д.), и в группе с отдаленным внешним сходством (пилот и полёт, гроб и короб и т. д.) любитель во всех случаях сумел бы изобрести какую-нибудь версию связи двух значений, которая его самого вполне удовлетворила бы. Безграничность этих его возможностей, естественно, означает, что степень доказательности провозглашаемых им «соответствий» равна нулю.
Особо отметим следующий важный факт. Чрезвычайно распространено наивное представление, что если древнее значение некоторого слова отличается от нынешнего, то это древнее значение есть «истинное» значение нашего слова. Поэтому энтузиазм, с которым любитель ищет древнее значение слова, часто основан на иллюзии, что это даст ему «правильное» понимание слова, которое все вокруг понимают и употребляют неправильно.
Между тем в действительности постепенное изменение значений части слов – это совершенно нормальный процесс в истории всех без исключения языков. Возникшее в языке новое значение некоторого слова действительно в течение некоторого времени воспринимается людьми старшего поколения как странное и неправильное. Но если это значение удержится в языке, то в последующих поколениях оно уже не будет никем восприниматься как неправильное и, следовательно, станет законным элементом языка соответствующей эпохи, частью его нормы.
Например, никому не придет сейчас в голову объявить неправильным значение 'восхитительный, прелестный' у слова очаровательный. А между тем менее трех веков тому назад это еще было слово с отрицательным, пугающим значением: 'околдовывающий, напускающий на человека злые чары'. Легко представить себе, какой получился бы эффект, если бы лингвист-любитель вздумал сейчас употреблять это слово в его «истинном», по его мнению, значении.
Совсем свежий пример: буквально на наших глазах изменило свое значение слово гуманитарный. Еще совсем недавно сочетание гуманитарная помощь воспринималось как бессмыслица или как грубая лексическая ошибка: гуманитарной могла быть наука и т. п., но никак не помощь продовольствием или медикаментами. Прошло немного лет, и вот уже ощущение немыслимости сочетания гуманитарная помощь почти утратилось. А новые поколения уже и не поймут, в чем здесь проблема. Примерно такую же эволюцию прошли слова формат, проект и ряд других.
Отдельного замечания требует вопрос о значении собственных имен. Как уже отмечено выше, люди часто задают такие вопросы, как «Что значит имя Юрий?» или «Что значит название Москва?». В этом пункте представления простого носителя языка особенно заметно расходятся с данными лингвистики. Носитель языка обычно находится здесь в плену отмеченной выше идеи, что древнее (первоначальное) значение слова и есть его «истинное» значение.
В действительности имя Юрий или название Москва только указывает на определенное лицо или на определенный город, но не передает никакого понятия: ни Юриям, ни Москве наименование не приписывает никаких качеств. Можно, например, назвать собаку произвольным выдуманным сочетанием фонем, допустим, Тримс, и это будет ее совершенно полноценное имя, выполняющее свои функции точно так же, как любое другое. Даже имя, полностью совпадающее с обычным словом, скажем, Надежда, не приписывает своим носительницам никакого общего свойства и воспринимается в речи, кроме случаев нарочитого обыгрывания, как всякое другое имя, без ассоциаций с понятием «надежда». И уж тем более никакого влияния на функционирование и восприятие имени Юрий не оказывает знание (или незнание) того историко-лингвистического факта, что греческий источник данного имени (γεωργός) имел значение 'земледелец'.
Здесь следует, правда, оговориться, что сказанное не распространяется на поэтические тексты. В поэтических текстах для слов, в том числе имен собственных, могут быть актуальными также и «скрытые смыслы», в частности, те ассоциации, которые возникают в силу сходства звучания имени с другими словами или в силу знания его первоначального значения. Но для языка в его основной функции и для его исторической эволюции эти факты значения не имеют.
Примеры любительских лингвистических построений
Приведу некоторые примеры из числа любительских объяснений, в изобилии встречающихся в различных публикациях и в интернете.
Так, можно встретить утверждение, что целая серия русских слов связана по происхождению с глаголом мазать. Так, маска – это якобы «нечто намазанное на лицо». Хотя достаточно заглянуть в словарь М. Фасмера, чтобы узнать, что слово маска пришло в русский язык из немецкого Maske или французского masque. В эту же группу включено слово помада, поскольку, по утверждению автора, «имелся и переход з в д», – хотя из того же словаря Фасмера нетрудно узнать, что слово заимствовано (через немецкое посредство) из французского pommade. Далее сообщается, что одним из видов такой помады является мёд. А слово медь – это просто «прилагательное (!) от слова мёд, т. е. медовая», поскольку «металл своим цветом и консистенцией (!) напоминает мёд». Оставляя без комментариев грамматическую и семантическую сторону этих рассуждений, заметим лишь, что медь – это древнее мѣдь (с ятем), а мёд – это древнее медъ (с е), и что одного этого уже достаточно, чтобы нельзя было непосредственно отождествлять их корни.
Скептический читатель тут может, правда, возразить: «Ну и что из того, что в словаре Фасмера, например, про слово помада сказано именно так? У Фасмера одна гипотеза, а здесь перед вами другая. Чем она хуже?»
Разберу этот пример в качестве образца с повышенной подробностью.
Во французском языке слово pommade прозрачным образом членится на корень pomm- (pomme 'яблоко') и суффикс -ade, т. е. ясен первоначальный смысл 'паста, полученная из яблок' (известно, что вначале данный вид мазей изготавливался именно из яблок). При заимствовании французского слова такого фонетического состава в русский, судя по другим словам с аналогичной историей (балла́да, блока́да, брига́да, рула́да и т. п., мармела́д, маскара́д и т. п.), должно было получиться помáда или помáд. Один из этих двух вариантов мы реально и видим. Таким образом, объяснение Фасмера находится в согласии с ситуацией как во французском, так и в русском языке.
Сравним с этим гипотезу любителя о том, что слово помада – русского происхождения, с корнем маз-.
Прежде всего, заявление «имелся и переход з в д» голословно. В действительности такого перехода в русском языке не было; замену воображаемого помаза на помада можно оценивать только как уникальное искажение, не имеющее никаких аналогий и никакого объяснения.
Далее, при принятии данной версии французское pommade придется объяснять либо как случайность (вероятность которой при таком полном тождестве как формы, так и значения близка к нулю), либо как заимствование из русского.
Если же это заимствование из русского, то, во-первых, придется признать, что в данном случае заимствование слова шло не в том хорошо известном направлении, в котором распространялись в Европе новшества косметики, а в противоположном; во-вторых, ничем, кроме некоей фантасмагорической случайности, невозможно будет объяснить тот факт, что взятое из русского языка слово вдруг оказалось легко членимым на французский корень и французский суффикс, да еще при этом корень (pomm-) совпал с названием того плода, из которого помада реально изготавливалась.
Как мы видим, версия любителя в каждом из своих звеньев основана на предположении о том, что произошло нечто случайное, причем имеющее вероятность, близкую к нулю.
Полагаю, что в этой ситуации читатель уже достаточно ясно видит, какое из двух решений практически надежно и какое полностью фантастично.
Вот еще несколько примеров любительских этимологий:
солнце – это сол-неси, т. е. 'несущее силу' (конечно, сол- и сил-а – это отнюдь не одно и то же по звучанию, равно как -нце и неси, но любителей такие мелкие затруднения не останавливают);
солнце – это со-лън-ц-е, т. е. нечто маленькое (ввиду уменьшительного суффикса -ц-е), совместное (со-) с луной (лън-);
Бразилия – это брез-или, т. е. брег + ил 'берег илистый';
молоко – это «то, что мелют, доводят до состояния, когда оно мелко (то есть размолото), а когда это мелко кладут в воду, получают млеко, т. е. молоко (взвесь размолотого в воде)»;
по утверждению одного из авторов, «в корне лон инициальный слог лъ имел смысл 'жидкость, вода'»; на этом основании он предлагает, в частности, следующие этимологии: Лена – «река», лень – «состояние приятной расслабленности от погружения в воду», лён – «растение, погруженное в воду» (при отбеливании), волъна – «прибыль воды».
Полагаю, что непредвзятый читатель испытывает некоторое изумление от степени произвольности тех смысловых переходов, которые бестрепетно предлагают авторы подобных этимологических построений. У него возникает ощущение, вполне соответствующее тому, о чем мы говорили выше, – что нет таких двух слов, чтобы при подобном подходе к делу нельзя было придумать, как из смысла первого вывести смысл второго.
Заниматься попунктным опровержением всех этих вольных домыслов я не буду. Достаточно сказать, что практически каждый из них основан на нарушении того или иного элементарного правила из области исторической лингвистики.
Любительский подход к именам собственным
Существует специфическая сфера, где ситуация такова, что в сопоставлении могут участвовать лишь внешние оболочки слов, но не их значения. Таково положение с большинством имен собственных. Например, английские имена, транскрибируемые как Боб, Дик, Пол, Том, или французское имя Люк, или норвежское имя Кнут внешне совпадают с определенными русскими словами; но сравнение по значению здесь невозможно, поскольку, как уже указано, у имен собственных значения как такового нет.
Особенно много случаев совпадений с русскими словами среди иностранных географических названий. Приводим для иллюстрации довольно много примеров[10] (но, разумеется, список никоим образом не полон):
города Вена, Рига, Киль; города (и другие населенные пункты) Бар, Кон, Кран, Лак, Лев, Лик, Мель, Мор (во Франции), Лик, Рай, Род (в Англии), Кит (в Шотландии), Лист, Род, Хам, Хан (в Германии), Бар, Хам (в Швейцарии), Серна (в Швеции), Лом (в Норвегии), Сало (в Италии), Сон (в Испании), Мор (в Венгрии), Бар (в Черногории), Сало (в Финляндии), Кум (в Иране), Горе в Эфиопии;
река Морда под Ливерпулем, река Кол под Бирмингемом, река Море под Парижем, также реки Вар, Сор (во Франции), Вид, Пар (в Германии), Мера, Сор (в Италии), Раб (в Австрии, она же Раба в Венгрии);
остров и город Хитра (в Норвегии), горы Дева (в Японии), остров Моча (Чили), мыс Горн (Аргентина).
Лингвист-любитель весьма склонен к тому, чтобы рассматривать такие совпадения как глубоко знаменательные и пытаться разгадать пути, по которым русские названия пришли на иностранные земли.
Ему не приходит в голову, что не меньший успех ожидал бы и иностранного лингвиста-любителя, который захотел бы отыскать свои родные слова на карте России. Например, испанский любитель быстро сообразил бы, что Кама и Ока – это просто испанские слова cama 'кровать' и oca 'гусь, гусыня'; итальянец догадался бы, что река Пьяна – это итальянское piana 'тихая', а турок – что Дон и Нева – это турецкие don 'мороз' и neva 'богатство'.
Как мы видим, отыскать на карте любой страны географические названия, похожие на слова родного языка любителя, – дело довольно несложное. Понятно, тем самым, что такие находки сами по себе, без лингвистического и историко-географического анализа, не имеют ровно никакой цены в изучении действительного происхождения соответствующих географических названий.
Мы приводили здесь только точные соответствия – нам было важно показать, что даже и при таком жестком условии соответствий обнаруживается очень много.
Но, как уже было отмечено выше, любители в действительности никогда не ограничиваются одними лишь точными соответствиями – они считают позволительными самые разнообразные замены одних букв на другие, равно как перестановку, отбрасывание и добавление букв. Иначе говоря, вместо точного фонетического соответствия любитель удовлетворяется тем, что он сам субъективно оценивает как некоторое сходство.
Понятно, что при таких слабых и неопределенных требованиях к понятию соответствия число случаев соответствия возрастает почти неограниченно. Например, вполне могут быть признаны соответствующими друг другу слова Верона и ворона, Берн и барин, Цюрих и царёк, Кёльн и клён, Бристоль и престол, Лондон и ладонь, Милан и милёнок, Равенна и равнина, Перу и первый, Бразилия и поросль, Мексика и Москва, и т. п. Можно продолжать этот ряд сколь угодно долго.
Разумеется, в подобных сопоставлениях вместо любого выбранного русского слова с равным успехом можно взять и другие русские слова. Например, вместо барин можно взять баран, или бревно, или перина, или Перун; вместо клён – клин, или колено, или калина, или глина, или холёный… Но любитель тем и отличается от научного исследователя, что его совершенно не смущает произвольность и субъективность сделанного им выбора. Ему кажется просто, что он угадал, – и вот он уже с энтузиазмом рассказывает или пишет, что название Кёльн произошло от русского слова клён.
И так же, как и выше, все сказанное, разумеется, приложимо не только к русскому лингвисту-любителю, но и к любому иностранному. Вообразим французского любителя, одержимого таким же энтузиазмом. Он очень быстро объяснил бы нам, что, например, город Клин – это французское colline 'холм', Курск – это course 'ска́чки', Москва – это mousse coite 'тихий мох'. На это его немецкий собрат мог бы возразить: «О нет, совсем не так! Клин – это немецкое klein 'маленький', Курск – это kurz 'короткий', Москва – это Moos-kuh 'моховая корова'».
Читатель здесь, возможно, скажет: что за нелепые выдуманные примеры! К сожалению, при дальнейшем чтении он обнаружит много примеров ровно такого же свойства, но уже не выдуманных, а взятых непосредственно из сочинений лингвистов-любителей.