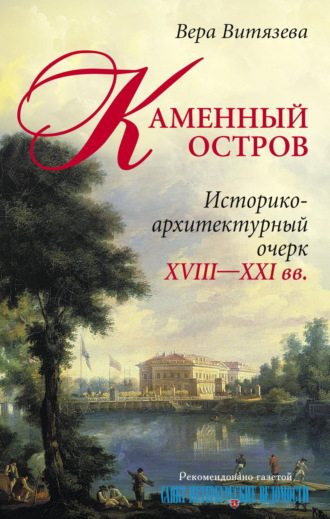
Вера Витязева
Каменный остров. Историко-архитектурный очерк. XVIII—XXI вв.
Памяти Глеба Лебедева – викинга, блистательного историка, замечательного человека – посвящается эта книга

© Витязева В.А., 2010
© Художественное оформление, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2010
© ООО «МиМ-Дельта», 2010

Каменный остров. Фрагмент плана Санкт-Петербурга. 1841 г.
На севере столицы
Каменный остров.
Магически притягательное сочетание слов, поэтическое, легкое и устойчивое одновременно.
У каждого заповедного места, как заметил А.Н. Анциферов, есть свой genius loci, который воплощает его душу, его своеобразие и неповторимость. Не будем искать его на Каменном острове, просто он сам – для Петербурга – воплощение этого удивительного понятия – genius loci.
Каменный остров – это маленький зеленый оазис в аквамариновом окружении Невок – Малой, Большой и Средней. Он всегда привлекал горожан острой свежестью морского воздуха, его вкус и запах передала Анна Ахматова:
Ветер, полный балтийской соли… —
или, у нее же, но – спокойнее, в ритме летящих ветров Балтики:
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет…
Как наваждение, привораживал островитян малахитовый сумрак липовых аллей. Платиновое сияние каналов смутно отражало северное небо и серебристые шары над водой – кроны ив.
Среди имен художников, писателей и поэтов, судьба которых оказалась связанной с Каменным островом, назовем только одно – Александр Пушкин, который более ста пятидесяти лет назад подарил острову избранную единственность, запечатленную в волшебных словах «Каменноостровского цикла». Конечно, дача Доливо-Добровольских, где Пушкин провел летние месяцы 1834 и 1837 гг., не сохранилась, молчаливым свидетелем давно отшумевших событий оставался только Кухонный флигель, перестроенный заново в середине 1990-х. Но – прикоснемся руками к старым липам Большой аллеи и Большого канала, пройдем по Невской набережной дороге, постоим в церкви Рождества Иоанна Предтечи, где в серебряной купели крестили детей поэта, припомним потрясающей грусти и искренности стихи «Библейского цикла» – и в памяти сердца, сначала смутно, а затем все отчетливее, начинают проявляться каменноостровские страницы пушкинского Петербурга.
Традиция проводить время на острове появилась еще при Петре I, то есть с первых десятилетий существования Северной столицы: здесь строили дворцы и дачи представители императорского дома, знатные вельможи, тут они проводили летние месяцы, сюда горожане спешили на праздничные гулянья.
В конце XIX – начале XX в. Каменный остров пережил первый в своей истории «строительный бум», когда его владельцы герцоги Георгий и Михаил Георгиевичи Мекленбург-Стрелицкие и принцесса Елена Георгиевна Саксен-Альтен-бургская, в целях получения прибыли от своего хозяйства, стали сдавать земельные участки острова в долгосрочную аренду. Именно тогда в центральной его части сформировался один из лучших в мировой практике архитектурных ансамблей Серебряного века – ансамбль в стиле модерн, связанный с творчеством В.И. Шене, В.И. Чагина, Р.Ф. Мельцера, Ф.Ф. фон Постельса и других мастеров «нового стиля».
Через сто лет, в 1991 г., с обрушением тоталитарного режима и советской системы хозяйства, закрылись дома отдыха, санатории, детские сады и ясли; вскоре у земельных участков стали появляться новые владельцы.
Начало XXI в. – новый период, превративший Каменный остров в огромную строительную площадку. Чем закончится «золотая лихорадка» и как поведут себя новые домовладельцы по отношению к исторически сложившейся планировке и застройке Каменного острова, покажет время, во всяком случае, все происходит под неусыпным наблюдением сотрудников Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Администрации Санкт-Петербурга (бывшей Инспекции по охране памятников, преобразованной в 1990-х гг. в Управление, затем в Комитет по охране памятников при мэрии Санкт-Петербурга), что, возможно, поспособствует более или менее благополучному завершению и этого этапа в истории острова.
О водных протоках и мостах
Каменный остров расположен в северной части дельты Невы. Его площадь 106 га, по административному делению он входит в Петроградский район Санкт-Петербурга.
Река Большая Невка – правый рукав Невы длиной 7,9 км – с севера отделяет остров от районов города, называемых Старой и Новой Деревней. Мелкими водотоками Большой Невки являются Малая Невка (длина ее 4,9 км), с южной стороны отделяющая Каменный остров от Петроградского и Аптекарского островов; Средняя Невка (2,6 км), на северо-западе разделяющая Каменный и Елагин острова, и речка Крестовка (0,7 км), которая с юго-западной стороны отделяет Крестовский остров от Каменного. Все мелкие водотоки соединены между собой каналами и образуют единую водную систему Каменного, Елагина и Петровского островов.
С Петроградской стороной Каменный остров соединен Каменноостровским мостом, а с северной, материковой частью города – Ушаковским. Оба моста построены в начале 1950-х гг. по проектам инженеров В.В. Демченко и Б.Б. Левина, архитекторов П.А. Арешева и В.С. Васильковского; современные стальные и железобетонные конструкции мостов скрыты под тяжеловесным парадно-монументальном декором «сталинского псевдоклассицизма» с навязчивым изобилием обелисков, колонн, рельефов, макетов орденов и прочей советской символики.
1-й Каменноостровский мост
Первые мосты через Малую Невку, наводимые с весны 1760 г., были сезонными, наплавными или плашкоутными, с паромной переправой у Каменноостровского дворца.

К.И. Кольман. Вид на Каменноостровский мост. 1830-е гг.
В 1811–1813 гг. построили Бетанкуров мост – семипролетный, на деревянных сваях, названный по имени автора проекта, выдающегося ученого, гидроинженера и архитектора Августина Бетанкура. Семипролетная система была выполнена из «рамных конструкций» – секций, состоящих из чугунных полых ящиков. Это позволило настолько увеличить высоту стрелы центрального пролета, что под ним свободно проходили барки и парусники, зато въезд и спуск с моста получились очень крутыми, почему его и называли Горбатым. Кареты и коляски, повозки и телеги медленно поднимались вверх по его настилу, а на спуске с грохотом обрушивались вниз на маленькие предмостные площади. Преодоление этих препятствий, особенно осенью и зимой, в приправленные гололедом снежные метели, были для извозчиков и пассажиров подобны переходу Суворова через Альпы.
Этот мост, словно туго натянутая между берегами тетива лука, был не только одним из самых красивых инженерных сооружений своего времени, но и первым свайным мостом в истории российского мостостроения. После разрушительного наводнения 1824 г., в 1826–1827 гг., мост был реконструирован с частичным восстановлением свайных конструкций и получил название 1-й Каменноостровский.

Б. Патерсен. Дача Строганова и Строгановский мост. 1804 г.
При капитальном ремонте в 1856 г. мост получил плоское покрытие, капитальный ремонт потребовался и после наводнения 1924 г., а в 1952–1953 гг., к 250-летию города, был построен новый разводной мост из металла и камня. Таким он сохранился до настоящего времени.
2-й каменноостровский мост (Ушаковский)
Строгановский мост через Большую Невку, наплавной, плашкоутный, наводимый с начала 1790-х гг., находился на территории Каменноостровского дворца и вел к даче графа А.С. Строганова на Черной речке, т. е. он соединял два частных владения, и никто из посторонних пользоваться им не мог, хотя потребность в мостовой переправе для горожан и дачников, особенно в летнюю пору, была очень велика. Тем более что мостом с Аптекарского острова на Каменный могли пользоваться все, но чтобы с Каменного острова попасть на Черную речку, в Старую или Новую Деревню, нужно было либо иметь собственную лодку, либо пользоваться платными перевозами. Только с началом строительства в 1811 г. Каменноостровского шоссе по проекту архитектора Г.П. Пильникова Строгановский наплавной мост перенесли к Инвалидному дому, он стал общедоступен, затем был передан владельцами острова в ведение города, который и стал заботиться о его состоянии.
Первый постоянный деревянный мост с плоским настилом через Большую Невку, названный 2-м Каменноостровским, был построен в 1852 г. В металле и камне, также как и 1-й Каменноостровский, его перестроили в 1955 г. и назвали Ушаковским – в честь адмирала Ф.Ф. Ушакова.
Каменноостровский проспект
В XVIII в. грунтовая дорога, проложенная на Каменном острове между наплавным мостом через реку Малая Невка и пристанью с перевозом от Инвалидного дома в Новую Деревню, состояла из отдельных участков (они соединялись между собой под разными углами) и называлась Каменноостровской.
Следующий этап работ по созданию единой магистрали выполнялся по проекту Г.П. Пильникова в 1809–1811 гг., но осуществили его лишь в придворцовой части.
Автор Каменноостровского шоссе – трассы, проложенной между 1-ми 2-м Каменноостровскими мостами в 1824–1827 гг., – архитектор Л.И. Шарлемань. Шоссе обустроили следующим образом: на мощную подстилку из строительного мусора (обломков кирпича, штукатурки и т. д.) накатывался слой глины, который перекрыли слоем утрамбованного гранитного щебня.
В соответствии с проектом, в геометрии шоссе был сохранен крутой поворот на прицерковном участке (и в наши дни доставляющий немало хлопот водителям всех видов транспорта), около мостов появились предмостные площади. Шоссе этого времени представляло собой мостовую с двумя пешеходными дорожками и аллейными посадками по сторонам. Позднее, в 1840-х гг., для мостовой использовали булыжное покрытие. В начале 1930-х гг. появился асфальт, который варили тут же в огромных котлах и накатывали на специально подготовленную бетонную «подушку».
При строительстве в 1950-х гг. Каменноостровского и Ушаковского мостов для спрямления проспекта хотели разобрать церковь, но ее смогли отстоять при помощи законного владельца – руководства военного санатория, которое не хотело лишаться размещенного в ней спортивного зала.
Строительство новых мостов повлекло за собой капитальную реконструкцию островной части проспекта: расширение и повышение его уровня, разборку части оранжереи и нескольких деревянных домов, снятие чугунной решетки с Мраморными воротами, которые отделяли дворцовый участок от Каменноостровского проспекта у 1-го Каменноостровского моста. Решетку установили у Юсуповского сада (со стороны Садовой улицы), а необычайной красоты Мраморные ворота с решеткой – монументальные, из розового итальянского мрамора – демонтировали при личном участии главного хранителя Павловского дворца-музея А.М. Кучумова в 1956 г. (предварительно сняв обмеры, выполнив серию фиксационных фотографий и сделав маркировку всех деталей ворот) и тщательно упакованными с величайшей осторожностью на лошадях доставили в Павловск.
Мраморные ворота с Каменного острова, установленные у входа в Павловский парк со стороны Привокзальной площади, стали символом глубинных культурно-исторических взаимосвязей дворцово-парковых комплексов эпохи Павла I.
В первое десятилетие XXI в. островная трасса – это завершающая часть четырехкилометрового Каменноостровского проспекта, самой красивой и оживленной магистрали Петроградской стороны.
Росчерком молнии, пересекая с юга на север Городской и Аптекарский острова, он соединил Кронверкский проспект, Троицкую площадь с Троицким мостом через Большую Неву и 2-й Каменноостровский мост через Большую Невку.
В жизни города Каменноостровский проспект решает стратегические задачи, связывая северные, стремительно развивающиеся районы города с историческим центром.
Историк Каменноостровского проспекта В.Д. Привалов отметил: название «Каменноостровский проспект» впервые на планах и картах Санкт-Петербурга появилось в 1822 г., но относилось оно только к части, расположенной на Каменном острове. Спрямление извилистой трассы основной части проспекта произошло к 1835 г. в соответствии с Генеральным планом урегулирования Петербургской стороны, разработанным в 1831 г. С 1867 г. вся магистраль стала называться Каменноостровским проспектом, а столичные журналисты в начале XX в., не без доли ехидства, сравнивали его с Елисейскими Полями Парижа1.
Если наименование основной части проспекта по советско-партийным идеологическим соображениям меняли от проспекта Красных Зорь (1918) до Кировского (1934), то на Каменном острове оно оставалось неизменным, что, несомненно, доставляло тайную радость всем, кто мог произнести вслед за Осипом Мандельштамом:
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок… —
кто без фарисейства относился к истории невских островов, где столичное сияние Петербурга таинственно сохранялось и в первоначальном имени проспекта, длительном, как вдох и выдох, – Каменноостровский.
4 октября 1991 г. на картах города вновь появилось первоначальное наименование магистрали, пересекающей Петроградский и Аптекарский острова, – Каменноостровский проспект, и в связи с этим нумерация домов стала единой от Кронверкского проспекта до набережной Большой Невки на Каменном острове.
Невские острова
Триада островов – Елагина, Крестовского и Каменного – составила своеобразное культурно-историческое и топографическое единство, закрепившееся с 1800-х гг. в названии «Острова» как имени собственном2.
Обширные загородные дворцово-парковые комплексы на Островах появились в XVIII–XIX вв.: Елагин и Каменный принадлежали императорской фамилии; на самом большом из них, Крестовском, кроме обширной усадьбы владельцев острова князей Белосельских-Белозерских, основная территория была разделена на сдаваемые ими в долгосрочную аренду земельные участки для строительства домов, разведения садов, огородничества; часть земли принадлежала городу, и здесь постепенно создавалась, говоря современным языком, «индустрия отдыха».
Особой популярностью пользовались «русские горы» в саду Дюваля на Каменном острове и «американские» на Крестовском; создание здесь современного развлекательного комплекса «Диво-остров» с его дельфинарием, качелями, каруселями, высоченным колесом обозрения, разнообразными устройствами для любителей экстремальных ощущений, вроде стремительного броска с 30-метровой вышки, – закономерное развитие этих традиций.

К. Беггров. Крестовский остров. С литографии С. Галактионова. Вторая половина 1820-х – 1830-е гг.
А примерно 150 лет назад здесь устраивались рождественские елки, дети катались на пони, а взрослые – на лошадях и оленях. Особым великолепием отличались фейерверки и иллюминации в дни тезоименитства в императорском семействе или рождения наследника российского престола. На пароходах «Невской флотилии» катались по рекам, каналам, Финскому заливу. Духовая музыка в Крестовском саду, выступления акробатов и цыганского хора, чудеса кухни в Немецком трактире – все это конечно же отличалось от чопорных развлечений каменноостровцев на спектаклях в Летнем театре. Но особой границы между ними не было, скорее система перетекающих парковых пространств, взаимно дополняя друг друга, сообщала жизни на Островах поэтическо-меланхолический оттенок.
Свое впечатление об Островах передал французский путешественник маркиз А. де Кюстин в известной книге «Россия в 1839 году»: «Сегодня я совершил прогулку на острова. Нигде в мире я не видел болота, столь искусно прикрытого цветами. Представьте себе сырое, низкое место, которое лишь летом, благодаря каналам, отводящим воду, несколько высыхает. Такова эта местность, превращенная в превосходную березовую рощу, окруженную великолепными виллами. Аллея берез, которые вместе с соснами являются единственными представителями растительного царства, произрастающими на этой ледяной равнине, создает иллюзию английского парка. Этот большой сад с виллами и коттеджами служит для петербуржцев дачным местом, на короткое время летом заселяющимся придворной знатью. Остальную же часть года острова совершенно пустынны.

Н. Чернецов. Вид на Елагин остров в Петербурге.
Вторая половина 1820-х гг.
Парижане, которые никогда не забывают своего Парижа, назвали бы острова русскими Елисейскими Полями, но острова гораздо обширнее, носят более сельский характер и вместе с тем гораздо богаче разукрашены, чем наше место для прогулок в Париже. Они и более удалены от богатых городских кварталов. Район островов – одновременно и город, и сельская местность. Рощи, луга, отвоеванные у окружающих болот, заставляют верить, что кругом действительно поля, леса, деревни, а в то же время храмоподобные здания, пилястры, окаймляющие богатые оранжереи, колоннады дворцов, театр с античным перистилем – все это заставляет вас думать, что вы, находясь на островах, не покинули города»3.
Были и свои, местные достопримечательности, столь же обязательные для посещения, как колоннада Исаакиевского собора, откуда жители и гости Петербурга любовались панорамой города.

К. Беггров. Гулянье на Елагином острове. С литографии А. Брюллова. Вторая половина 1820-х – 1830-е гг.
На Елагином – это стрелка, или «пуант», прославленная восхитительной красотой пламенеющих закатов, отраженных в воде. Аристократический и придворный Петербург, не покидая карет, в полной тишине наблюдал за волшебными переливами солнечного света, пламенеющего, тающего и исчезающего за дальней линией горизонта Финского залива. Совершали паломничества к дубу Петра Великого на Каменном острове, посаженного основателем города в память своего пребывания в гостях у канцлера графа Г.И. Головкина в 1715 г.
Но примерно с 1840-х гг. публика постепенно стала иной, более раскованной и демократичной: «…Петербург съезжался на «Стрелку» после обеда, сытым и довольным. Островитяне, т. е. жившие постоянно или только лето на дачах на Елагином и соседнем островах, тянулись сюда пешком… Картина напоминала какой-то грандиозный светский базар, где комплименты, сплетни и деловые разговоры сливались в один общий гул… Со «Стрелки», по установленному церемониалу, уезжали в летние сады и театры – «Аркадия», «Ливадия», «Крестовский сад», «Буфф» и пр…А под утро картина «Стрелки» совершенно менялась и вместо красивых «выездов» и чванной, пестрой толпы приезжали на лихачах и «ваньках» те неугомонные петербуржцы, разгулу которых не было конца. Отсюда они торопились еще попасть в Новую деревню на «тони» и вторично поужинать, сварив там уху из только что пойманной неводом на их счастье рыбы».

Хелмицкий. Стрелка Елагина острова. Заход солнца
«Пологость низких островов», серебро рек и каналов, красота памятников архитектуры привлекали сюда писателей, художников, поэтов. В «Обыкновенной истории» И.А. Гончарова на Каменном острове находилась дача Любецких. А какое одухотворенное описание ночи, едва ли не лучшее в русской литературе, оставил он благосклонному читателю:
«Наступала ночь… нет, какая ночь! Разве летом в Петербурге бывают ночи? Это не ночь, а… тут надо бы выдумать другое название – так, полусвет… Все тихо кругом. Нева точно спала; изредка, будто спросонок, она плеснет легонько волной в берег и замолчит. А там откуда ни возьмется поздний ветерок, пронесется над сонными водами, но не сможет разбудить их, а только зарябит поверхность и повеет прохладой на Наденьку и Александра или принесет им звук дальней песни, и снова все смолкнет, и опять Нева неподвижна, как спящий человек, который при легком шуме откроет на минуту глаза и тотчас снова закроет: и сон пуще сомкнет отяжелевшие веки. Потом со стороны моста послышится как будто отдаленный гром, а вслед за тем лай сторожевой собаки с ближайшей тони, и опять все тихо. Деревья образовали темный свод и чуть-чуть, без шума, качали ветвями. На дачах по берегам мелькали огоньки.

М. Воробьев. Невка у Елагина моста. 1829 г.
Что особенного тогда носится в этом теплом воздухе?
Какая тайна пробегает по цветам, деревьям, по траве и веет неизъяснимой негой на душу? Зачем в ней тогда рождаются иные мысли, иные чувства, нежели в шуме, среди людей? А какая обстановка для любви в этом сне природы, в этом сумраке, в безмолвных деревьях, благоухающих цветах и уединении! Как могущественно все настраивало ум к мечтам, сердце к тем редким ощущениям, которые во всегдашней правильной и строгой жизни кажутся такими бесполезными, неуместными и смешными отступлениями… да! Бесполезными, а между тем в те минуты душа только и постигает смутно возможность счастья, которого так усердно ищут в другое время и не находят»4.
Обратим внимание на точность топографических деталей, на тончайший слух автора, который улавливает и дыхание невской волны, и «отдаленный гром» почти летящей с Горбатого моста кареты, и лай сторожевой собаки на Тоне, где любителям позднего ужина готовили только что выловленную рыбу, есть даже указание на то, что герои опирались на решетку около воды, а путешествие от Сената у Медного всадника на лодке с гребцами занимало у Александра Адуева около часа – все говорит о том, что дача была на Малой Невке и сам И.А. Гончаров, недавно приехавший в Петербург и еще не различавший названий всех протоков Невы, часто бывал в этих заповедных местах.
Полюбоваться елагиноостровскими закатами приводил героев «Войны и мира» Л.Н. Толстой. Приметы Островов, как отяжелевший свет февральских звезд, пронизывают творчество Александра Блока 1910-х гг. Переплетение истории и современности, ландшафта и архитектуры, природы и искусства, их единение создавали на Островах особый климат, столь привлекательный для жителя столицы, еще не знакомого с запахом выхлопных газов, но непоколебимо уверенного в том, что в городе летом абсолютно нечем дышать, и стремившегося на Острова, как мусульманин стремится в Мекку.


