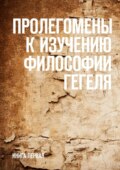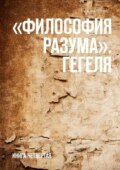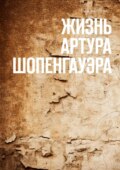Уильям Уоллес
Логика Гегеля. Книга третья
Чувство также не является единственным источником материализованных представлений.
Существуют концепции, основанные на материалах, исходящих от самосознающей мысли, такие как концепции права, морали, религии и даже самой мысли, и не сразу можно заметить, где существует разница между такими концепциями и мыслями, имеющими тот же объем. Ибо это мысль, средством которой является такое понятие, и здесь нет недостатка в форме всеобщности, без которой никакое содержание не могло бы быть во мне или вообще быть понятием. Однако и здесь особенностью концепции является индивидуализм или изолированность ее содержания. Верно, что мораль и моральные идеи не существуют в чувственном мире пространства, взаимно исключая друг друга. Что касается времени, то, хотя они в какой-то степени проявляются в последовательности, их содержание само по себе не мыслится как затронутое временем или как преходящее и изменчивое в нем. Ошибка в концепции лежит глубже. Эти идеи, хотя они и принадлежат разуму, стоят изолированно то тут, то там на широком поле способности восприятия, которая придает им лишь внутреннюю и несовершенную обобщенность. Сведенные таким образом к отдельным сущностям, они являются тем, что мы называем простыми: Справедливость, Долг, Бог. В этих обстоятельствах концепция либо довольствуется заявлением, что Справедливость есть Справедливость, Бог есть Бог: либо в более высоком классе культуры она переходит к изложению атрибутов, как, например, Бог есть Творец мира, всеведущий, всемогущий и т. д. Таким образом, несколько изолированных, простых предикатов соединяются вместе: но, несмотря на связь, обеспечиваемую их субъектом, предикаты никогда не выходят за рамки простого соседства. В этом отношении концепция совпадает с познанием: единственное различие заключается в том, что последняя вводит отношения всеобщего и особенного, причины и следствия и т. д., и таким образом обеспечивает необходимую связь между изолированными идеями живописной концепции; последняя же оставляет их бок о бок на смутном фоне воображения, связанными только голым «и». Различие между концепцией и мыслью имеет особое значение: ведь философия, можно сказать, не делает ничего, кроме превращения концепций в мысли, – хотя она и занимается дальнейшим превращением простой мысли во всеобъемлющее понятие.
Разумное существование характеризуется атрибутами индивидуальности и взаимного исключения членов. Хорошо помнить, что эти атрибуты являются мыслями и общими понятиями. В «Логике» будет показано, что мысль (и всеобщее) не является простой противоположностью чувства: она постигает свою противоположность и, перекрывая даже ее, не позволяет ничему ускользнуть от нее. Язык – это работа мысли: следовательно, все, что выражается в языке, должно быть всеобщим. То, что я только подразумеваю или предполагаю, – мое: оно принадлежит мне как конкретному человеку. Но язык не выражает ничего, кроме всеобщности; и поэтому я не могу сказать то, что я только подразумеваю или чувствую. А то, что не может быть произнесено, чувство или ощущение, отнюдь не является высшей истиной, это самое неважное и неистинное. Если я говорю «Единица», «Эта единица», «здесь», «сейчас», то все это – универсальные термины. Все и вся является индивидуальным, «этим», или, если быть разумным, находится здесь и сейчас. Точно так же, когда я говорю «я», я имею в виду свое единственное «я», исключая все остальные: но то, что я говорю «я», есть просто каждое «я», которое таким же образом исключает из себя все остальные. В неловком выражении, которое использовал Кант, он говорит, что Я связано с нашими ощущениями, желаниями и действиями, а также с нашими представлениями. «Я» – это абсолютная универсалия: а общность или ассоциация – одна из форм, хотя и внешняя форма универсальности. Все другие люди имеют со мной общее «я»: точно так же, как для всех моих ощущений и представлений общее – быть моими. Но «я», в абстракции, как таковое, – это просто акт концентрации или обращения к себе, в котором мы абстрагируемся от всех представлений и чувств, от всех состояний ума и всех особенностей природы, таланта и опыта. В этом смысле" F означает существование полностью абстрактной универсальности, принципа абстрактной свободы. Мысль, рассматриваемая как предмет, выражается словом «я»: и поскольку я нахожусь одновременно во всех моих ощущениях, представлениях и состояниях сознания, мысль присутствует везде и является категорией, проходящей через все эти модификации.
Когда мы используем термин «мысль», то в первую очередь представляем себе субъективную деятельность – одну из многих схожих способностей, таких как память, воображение и воля. Если бы мысль была лишь деятельностью субъекта-разума и рассматривалась логикой в этом аспекте, то логика напоминала бы другие науки, обладая четко очерченным объектом. Удивительно только, что в таком случае кто-то счел необходимым посвятить мысли специальную науку, в то время как воле, воображению и остальным было отказано в такой же привилегии. Однако даже в этом случае выбор одной из способностей может быть вполне обоснован определенным авторитетом, признанным за мыслью, и ее претензией на то, чтобы считаться истинной природой человека, в которой заключается его отличие от животных. Не менее важно изучать мысль даже как субъективную энергию. Детальный анализ ее природы позволит выявить правила и законы, знание которых вытекает из опыта. Рассмотрение законов мышления с этой точки зрения в свое время составило корпус логической науки. Основателем этой науки был Аристотель. Ему удалось приписать мысли то, что ей по праву принадлежит. Наша мысль чрезвычайно конкретна: но в ее составном содержании мы должны различать ту часть, которая принадлежит мысли, или абстрактный способ ее действия. Тонкая духовная связь, заключающаяся в действии мысли, связывает все эти содержания в одно целое, и именно эту связь, форму как форму, отметил и описал Аристотель. До сегодняшнего дня логика Аристотеля остается общепринятой системой. Она, правда, подверглась большему развитию, особенно благодаря трудам средневековых школяров, которые, не расширяя материал, лишь более детально его проработали. Современники также оставили свой след в этой логике, частично опустив многие пункты логической доктрины, приписываемой Аристотелю и школьникам, а частично добавив в нее большое количество психологических материй. Целью науки является знакомство с процедурой конечного мышления (или мышления, имеющего дело с существующими объектами): и если она приспособлена к своему предполагаемому объекту, то наука имеет право называться правильной. Изучение этой формальной логики, несомненно, имеет свою пользу. Она, как говорится, прочищает голову, учит собирать мысли и абстрагироваться – в то время как в обыденном сознании нам приходится иметь дело с чувственными представлениями, которые пересекаются и озадачивают друг друга. Кроме того, абстрагирование подразумевает концентрацию ума на одной точке, а значит, прививает привычку внимать своему внутреннему «я». Знакомство с формами конечного мышления может стать своего рода введением к преследованию эмпирических наук, поскольку их метод регулируется этими формами: в этом смысле логика была названа инструментальной. Правда, мы можем быть еще более либеральными и сказать: Логику следует изучать не ради ее полезности, а ради нее самой: высшее благо не следует искать ради простой полезности. В одном смысле это совершенно верно: но на это можно ответить, что высшее благо также и самое полезное: ведь оно – всеобъемлющий факт, который, имея собственное существование, может поэтому служить проводником всех специальных целей, которые он продвигает и обеспечивает. Таким образом, особые цели, хотя они и не имеют права быть поставленными на первое место, все же поддерживаются присутствием высшего блага. Религия, например, имеет абсолютную ценность сама по себе; но в то же время другие цели процветают и преуспевают в ее сопровождении. Как говорит Христос: «Ищите прежде Царства Божия, и это все приложится вам». Конкретные цели могут быть достигнуты только при достижении того, что абсолютно есть и существует само по себе.
21. (b) Было показано, что мысль активна. Теперь, во вторую очередь, мы рассматриваем это действие в его отношении к объектам, или как рефлексия на чем-то. В этом случае универсалия или продукт ее работы оценивается как эквивалент факта, сущности, внутренней ценности, истины.
В разделе 5 было приведено старое мнение о том, что реальность объекта, обстоятельства или события, внутренняя ценность или сущность – это тот факт, на котором следует делать акцент, что этот факт не является самоочевидной данностью сознания или совпадает с первым появлением и впечатлением; что, напротив, требуется размышление, чтобы обнаружить реальную конституцию объекта, и что посредством такого размышления она будет установлена.
Размышлять – это урок, который должен усвоить даже ребенок. Один из его первых уроков – соединение прилагательных с существительными. Это обязывает его внимать и различать: он должен запомнить правило и применить его к конкретному случаю. Это правило – не что иное, как общезначимое: и ребенок должен видеть, что конкретное приспосабливается к этому универсальному. В жизни, опять же, у нас есть цели, которых нужно достичь. И по отношению к ним мы размышляем о том, как лучше всего их достичь. Цель здесь представляет собой общезначимый или управляющий принцип, а у нас есть средства и инструменты, действие которых мы регулируем в соответствии с целью. Точно так же размышление активно в вопросах поведения. Размышлять здесь означает помнить о законе праведности и долга – универсальном, который служит неизменным правилом, направляющим наше поведение в данном случае. Наш конкретный поступок должен подразумевать и признавать общезначимый закон. То же самое мы видим при изучении природных явлений. Например, мы наблюдаем гром и молнию. Это явление нам знакомо, и мы часто его воспринимаем. Но человека не устраивает простое знакомство или факт в том виде, в каком он представляется органам чувств; он хотел бы проникнуть за поверхность, узнать, что это такое, и постичь его. Это приводит его к размышлениям: он стремится выяснить причину как нечто отличное от простого явления: он пытается познать внутреннее в его отличии от внешнего. Таким образом, явление становится двойным, оно распадается на внутреннее и внешнее, на силу и ее проявление, на причину и следствие. И снова мы видим, что внутреннее или сила отождествляются с универсальным и постоянным: не та или иная вспышка молнии, не то или иное растение, а то, что остается неизменным во всех них. Чувственная видимость индивидуальна и мимолетна: постоянный факт, содержащийся в ней, обнаруживается в процессе размышления. Природа демонстрирует нам бесчисленное множество отдельных форм и явлений. В это многообразие мы вынуждены вносить единство: мы сравниваем, следовательно, и пытаемся найти всеобщее в каждом отдельном случае. Индивидуумы рождаются и гибнут: род пребывает и повторяется во всех них, и его существование заметно только в рефлексии. Под эту же категорию попадают такие законы, как законы, регулирующие движение небесных тел. Сегодня мы видим звезды здесь, а завтра – там: и наш разум находит в этом хаосе нечто несочетаемое – то, во что он не может поверить, потому что верит в порядок, в простой, постоянный и общезначимый закон. Вдохновленный этой верой, наш разум направил свое размышление на явления и познал их законы. Другими словами, он установил, что движение небесных тел соответствует универсальному закону, на основании которого можно узнать и предсказать любое изменение положения. Точно так же обстоит дело с влияниями, которые проявляются в бесконечной сложности человеческого поведения. Здесь человек тоже верит в силу общего принципа. Из всех этих примеров можно понять, что рефлексия всегда стремится к чему-то фиксированному и постоянному, что обладает собственной определенностью и управляет частностями. Этот общезначимый принцип не может быть постигнут чувствами, но только он может считаться истинным и существенным. Таким образом, обязанности и права имеют огромное значение в вопросах поведения: действие истинно, когда оно соответствует этим универсальным формулам.
Характеризуя таким образом общезначимое, мы осознаем его противоположность чему-то другому. Это нечто другое – просто непосредственное, внешнее и индивидуальное, в противоположность опосредованному, внутреннему и универсальному. Всеобщее не существует для внешнего глаза как всеобщее. Доброе как доброе не может быть воспринято: законы небесных движений не написаны на небе. общезначимое нельзя ни увидеть, ни услышать, его существование – тайна, известная только разуму. Религия ведет нас к универсальному, которое заключает в себе все остальное, к Абсолюту, благодаря которому все остальное становится бытием: и этот Абсолют – объект не чувств, а разума и мысли.
22. (c) В результате размышления и медитации происходит изменение наших ощущений, восприятия и материальных представлений. Объект сознания претерпевает трансформацию. Таким образом, как оказывается, необходимо изменить объект, прежде чем можно будет обнаружить его истинную природу.
То, к чему приводит размышление, является продуктом нашего мышления. Солон, например, исходил из своих собственных суждений, принимая законы, которые он дал афинянам. Это половина истины: но не следует забывать, что всеобщее (в случае с Солоном – законы) – это не просто субъективное, а нечто обратное, или не замечать, что оно – сущностное, истинное и объективное существо вещей. Чтобы обнаружить истину в вещах, недостаточно простого внимания; мы должны призвать к действию наши собственные способности, чтобы преобразовать то, что находится непосредственно перед нами. На первый взгляд, это кажется инверсией естественного порядка, рассчитанной на то, чтобы помешать самой цели, ради которой и затевается познание. Но этот метод не настолько иррационален, как кажется. Каждый период истории чувствовал, что единственный способ добраться до постоянного субстрата – это трансмутировать данное явление с помощью рефлексии. В наше время впервые возникло сомнение по этому поводу в связи с различием, якобы существующим между результатами нашей мысли и вещами в их собственной природе. Эта реальная природа вещей, как утверждается, сильно отличается от того, что мы из них делаем. Развод между мыслью и вещью – дело рук критической философии и противоречит убеждению всех предыдущих эпох, что их согласие было само собой разумеющимся. Антитеза между ними – это шарнир, на котором держится современная философия. Между тем естественная вера людей опровергает ее. В обычной жизни мы размышляем, не особенно отмечая, что это и есть процесс прихода к истине, и думаем без колебаний, в твердой уверенности, что мысль совпадает с вещью. И это убеждение имеет величайшее значение. Она свидетельствует о больном состоянии эпохи, когда мы видим, как она принимает отчаянное кредо, что наше знание только субъективно и что этот субъективный результат является окончательным. В то время как истина, правильно понятая, объективна и должна так регулировать убеждения каждого, что убеждение отдельного человека клеймится как неправильное, если оно не согласуется с этим правилом. Современные взгляды действительно придают большое значение самому факту убеждения и считают, что быть убежденным хорошо само по себе, к чему бы это ни относилось, но нет никакого стандарта, по которому мы могли бы измерить его истинность.
Выше мы говорили, что, согласно старому вероучению, познание истины является характерной функцией разума. Мы можем пойти еще дальше и сказать, что все, что мы знаем как о внешней, так и о внутренней природе, одним словом, объективный мир, сам по себе является тем же самым, что и в мысли, и что мысль, следовательно, выражает истину объектов восприятия. Вся проблема философии заключается в том, чтобы довести до ясного сознания то, что мир во все века считал мыслью. Поэтому философия не предлагает ничего нового; и наше нынешнее обсуждение привело нас к выводу, который согласуется с естественным убеждением человечества.
23. (d) Реальная природа объекта выявляется в размышлении; но не менее верно и то, что это усилие мысли – моя aet. Если это так, то реальная природа является порождением моего ума, в его характере мыслящего субъекта. Эго в его некомпозитной универсальности, самособирающееся и отрешенное от посторонних влияний, – одним словом, наша Свобода, – является, таким образом, источником этой реальной природы.
Думайте сами – это обычное замечание, которое люди произносят, как будто оно выражает нечто важное. Дело в том, что ни один человек не может думать за другого, так же как он может есть или пить за него: это выражение смахивает на плеоназм. Свобода явно и тесно связана с мыслью, которая, будучи действием универсального, ставит нас в связь только со вторым «я», поскольку субъект и объект мысли одинаково универсальны. Здесь мы находимся дома с самими собой; но при этом не выделяется ни один особый аспект субъекта-разума, и содержание нашего сознания полностью основано на факте и его проявлениях. Если признать это и применить термин «смирение» к отношению, при котором никакие особые действия или влияния не приписываются нашему собственному психическому «я», то легко понять вопрос, касающийся смирения или гордости философии. Ведь по содержанию мысль истинна лишь в той мере, в какой она поглощена фактами; а по форме она не является особым или специфическим состоянием или действием ума. Мысль подразумевает следующее: разум как «Я» в одной лишь точке своего бытия освобождается от всех особых ограничений, которым подвержены его обычные состояния или качества, и ограничивает себя тем универсальным действием, в котором он тождественен всем индивидам. В этих обстоятельствах философия может быть оправдана от обвинения в гордыне. И когда Аристотель призывает разум возвыситься до достоинства этого действия, достоинство, которого он добивается, достигается тем, что мы отбрасываем все наши индивидуальные мнения и предрассудки и подчиняемся силе факта.
24. С этими пояснениями и оговорками мысли могут быть названы объективными мыслями, к которым мы отнесем формы, обычно обсуждаемые в обычной логике, где они считаются формами только сознательной мысли. Логика в нашем понимании совпадает с метафизикой, наукой о вещах в изложении мыслей, которые, как допускается, выражают сущность вещей.
Изложение отношения, в котором такие формы, как понятие, суждение и силлогизм, находятся к другим, таким как причинность, является делом самой науки. Но уже сейчас многое очевидно. Если мысль должна составлять понятие о вещах, то это понятие, как и его ближайшие фазы, суждение и силлогизм, не могут состоять из предметов и отношений, которые чужды и не имеют отношения к вещам. Рефлексия, как было сказано выше, ведет к универсалиям вещей: эти универсалии сами по себе являются одним из элементарных факторов понятия. Сказать, что Разум или Рассудок находится в мире, равносильно по своему значению фразе «Объективное мышление». Последнее выражение, однако, неудобно и двусмысленно. Мысль обычно ограничивается выражением того, что принадлежит только разуму или сознанию, в то время как объективное – это термин, применяемый, по крайней мере в первую очередь, к противоположности разума.
(1) Если говорить о мысли или объективной мысли как о внутренности или, так сказать, ядре мира, может показаться, что это означает приписывание сознания вещам естественной природы. Нельзя не почувствовать определенного отвращения к тому, чтобы сделать мысль внутренней функцией вещей, пока мы считаем, что она знаменует собой отклонение человека от природы. Поэтому будет лучше, если мы вообще используем термин «мысль», говорить о природе как о системе бессознательного мышления, или, по выражению Шеллинга, об окаменевшем интеллекте. А для того, чтобы предотвратить все заблуждения, вместо двусмысленного термина «мысль» следует использовать термин «тип» или «категория» мысли.
Из сказанного мы видим, что логика – это поиск системы типов или фундаментальных идей мышления, в которой исчезает противопоставление субъективного и объективного в обычном смысле. Значение, придаваемое этими замечаниями мысли и ее характерным формам, можно проиллюстрировать древним изречением, что «νοῦς управляет миром», или нашей фразой, что «Разум находится в мире»: это означает, что Разум – душа мира, который он населяет, его имманентный принцип, его самая собственная и внутренняя природа, его универсалия. Другим примером может служить то обстоятельство, что мы говорим о каком-то определенном животном как о животном. Так вот, животное qua animal не может быть показано; ничто не может быть показано, кроме какого-то особого животного. Животное, qua animal, не существует: это просто универсальная природа индивидов, в то время как каждое существующее животное – это более конкретная и партикулярная вещь. Но быть животным – закон Добра, который в данном случае является универсальным, – это свойство конкретного животного, составляющее его определенную сущность. Отнимите у собаки ее животность, и невозможно будет сказать, что она собой представляет. Все вещи имеют постоянную внутреннюю природу, а также внешнее существование. Они живут и умирают, возникают и исчезают; но их существенной и универсальной частью является Вид; и он не полностью описан, когда его объясняют как то, что они имеют совместно или совместно.
Мысль образует внутреннюю природу или субстанцию внешних вещей: она также является «универсальной субстанцией того, что духовно». В любом человеческом восприятии мысль – это Tpreseht; также мысль является универсальной во всех актах зачатия и воспоминания; короче говоря, в любой умственной деятельности, в желании, хотении и тому подобном. Все эти способности – лишь дополнительные характеристики мысли. Когда мысль предстает в таком свете, она играет совсем не ту роль, которую она играла, когда мы говорили о мыслительном факультете, одном из множества других факультетов, таких как восприятие, представление и воля, с которыми она стояла на одном уровне. Когда же мы видим, что она является истинной универсалией всего, что содержит в себе природа и разум, она расширяется, охватывая все эти способности, и становится основой всего. Этот взгляд на мысль в ее объективном значении как на vovs дает нам на данный момент точку соприкосновения, от которой мы можем перейти к рассмотрению субъективного смысла этого термина. Сначала мы говорим: человек – это существо мыслящее; но в то же время мы говорим: человек – это существо воспринимающее и волящее. Человек мыслит и универсален: но он мыслит только потому, что чувствует свою универсальность. Животное тоже подразумевает универсальность, но общезначимое не ощущается им сознательно как общезначимое: оно ощущает только индивидуальное. Животное видит единичный объект, например, свою пищу или человека. Для животного все это никогда не выходит за пределы единичного. Точно так же и ощущения не имеют отношения ни к чему, кроме единичных вещей, таких как эта пара или это удовольствие. Природа не доводит свои вовы до самосознания: это человек сначала делает себя двойным, чтобы быть универсальным для универсального. Впервые это происходит, когда человек осознает, что он есть «Я». Под термином «я» я подразумеваю себя, единственную и полностью детерминированную личность. И все же на самом деле я не произношу ничего, свойственного мне самому, ибо каждый другой – это «Я» или «Эго», и когда я называю себя «Я», то, хотя я, безусловно, имею в виду единственную личность, я выражаю абсолютную универсальность, таким образом, – это просто бытие-для-себя, в котором все особенное или отмеченное отброшено и похоронено вне поля зрения; это как бы конечная и не поддающаяся анализу точка сознания. Мы можем сказать, что «я» и мысль – это одно и то же, или, более определенно, «я» – это мысль как мыслящий. То, что я имею в своем сознании, есть для меня. «Я» – это вакуум или вместилище для всего и вся, для которого все есть и которое хранит все в себе. Каждый человек – это целый мир концепций, которые покоятся в ночи «Я». Из этого следует, что «Я» – это общезначимое, в котором мы оставляем в стороне все конкретное и в котором в то же время все конкретное имеет скрытое существование.
Иными словами, это не просто универсальность и ничего более, а универсальность, которая включает в себя и постигает все. Мы используем слово «Я», не придавая ему особого значения, и оно не является объектом изучения, за исключением философских размышлений. В «Я» факт мышления представлен ясно и непосредственно. В то время как животное не может сказать «я», человек может, потому что он мыслит. Теперь в «Я» есть множество содержаний, полученных как изнутри, так и извне, и в зависимости от природы этих содержаний наше состояние может быть описано как восприятие, или концепция, или воспоминание. Но во всех них обнаруживается «я»: или в них присутствует всякая мысль. Человек, таким образом, всегда мыслит, даже в своих восприятиях: если он что-то наблюдает, он всегда наблюдает это как общезначимое, фиксируется на одной точке, которую он ставит рельефно, отстраняясь от других точек, и воспринимает это как абстрактное и общезначимое, даже если эта универсальность только в форме.
В случае с нашими репрезентативными концепциями может произойти две вещи. Либо мыслится содержание, но не форма; либо форма принадлежит мысли, а не содержанию. Например, в таких терминах, как гнев, роза, надежда, я говорю о вещах, которые я познал на уровне чувств и ощущений, но я выражаю эти содержания в универсальном режиме, то есть в форме мысли. Я опустил многое конкретное и передал содержание в его всеобщности: но все же это содержание остается чувственно полученным. С другой стороны, когда я представляю Бога, содержание, несомненно, является продуктом мысли, но форма все еще сохраняет чувственную ограниченность, которую она имеет, когда я нахожу его непосредственно или интуитивно присутствующим в себе. В этих обобщенных образах содержание не просто и не просто чувственно, как это бывает в восприятии; но либо содержание чувственно, а форма принадлежит мысли, либо наоборот. В первом случае материя] дана нам, и наша мысль обеспечивает форму: во втором случае содержание возникает в мысли, а форма преобразует это содержание в данные, поступающие в дух извне.
(2) Логика – это изучение чистой и простой мысли, или нематериальных типов мысли. В обычном понимании этого термина мы обычно представляем себе нечто большее, чем простую и несмешанную мысль; мы считаем себя мыслящими нечто, что является даром опыта. В то время как в логике под мыслью понимается не что иное, как то, что зависит от мышления и что мышление привело к существованию. Именно в этих обстоятельствах мысли являются чистыми (несмешанными) мыслями. Ум в этих обстоятельствах находится в своей собственной домашней стихии и поэтому свободен: ведь свобода означает, что другая вещь, с которой вы имеете дело, – это второе «я» (alter ego), так что вы никогда не покидаете свою собственную почву, а отдаете закон самому себе. В случае с инстинктами или аппетитами импульс исходит от чего-то другого, от чего-то, что мы ощущаем как внешнее. Для свободы необходимо, чтобы мы не чувствовали присутствия чего-то другого, не являющегося нами самими. Естественный человек, чьи движения подчиняются только его аппетитам, не является своим собственным хозяином. Как бы он ни был своеволен, фактические составляющие его воли и мнения не являются его собственными, и его свобода – это всего лишь форма. Но когда мы думаем, мы отказываемся от своего эгоистичного и конкретного бытия, погружаемся в вещь, позволяем мысли следовать своим собственным путем, и если мы добавляем 1 что-либо от себя, мы думаем плохо.
Если в соответствии с вышеизложенными замечаниями рассматривать Логику как систему чистых типов мышления, то окажется, что другие философские науки, Философия природы и Философия разума, занимают место, как это было раньше, Прикладной логики. Прикладная логика, и что логика – это душа, одушевляющая их обе. Их проблема в таком случае заключается лишь в том, чтобы распознать логические формы под теми формами, которые они принимают в природе и разуме, – формами, которые являются лишь особым способом выражения форм чистой мысли. Если мы возьмем, например, силлогизм (не в том виде, как он понимался в старой формальной логике, а в его реальном значении), то обнаружим, что он дает выражение То, что каждая конкретная вещь – это средний термин, который объединяет крайности всеобщего и единичного. Силлогистическая форма – это универсальная форма всех вещей. Все, что существует, – это частности, дозированное объединение всеобщего и единичного. Но природа слаба и не способна продемонстрировать логические формы в их чистоте. Такой слабый пример силлогизма можно увидеть в магните. В середине, или точке безразличия магнита, два его полюса, как бы они ни различались, сходятся в один. Физика также содержит изложение универсального или сущностного начала в природе: единственное различие между ней и натурфилософией заключается в том, что последняя заставляет нас осознать реальные формы этого понятия в физическом мире.
Теперь понятно, что логика – это всепожирающий дух всех наук, а ее категории или типы мышления составляют духовную иерархию. Они – сердце и центр вещей: и в то же время они всегда у нас на устах и, по крайней мере, кажутся наиболее знакомыми объектами. Но знакомство такого рода обычно сопровождается наименьшим количеством знаний. Например, бытие – это категория чистой мысли: но сделать «есть» объектом исследования – это последнее, что может прийти нам в голову. Обычная фантазия помещает Абсолют далеко в запредельном мире. Абсолют – это скорее вечно присутствующее, то настоящее, которое, пока мы можем мыслить, мы должны, хотя и без явного осознания этого, всегда носить с собой и всегда использовать. Язык – главное хранилище этих типов мышления; и одно из применений грамматического обучения, которое получают дети, состоит в том, чтобы бессознательно обратить их внимание на различия мысли^.
О логике часто говорят, что она занимается только формами и черпает предмет для них из других мест. Но такая манера говорить, предполагающая, что логические мысли – ничто по сравнению с остальным содержанием, во многом противоположна истине. Только» – это не то слово, которое следует использовать в отношении форм, составляющих абсолютное и самосуществующее основание вселенной. Скорее, мы должны использовать слово «только» в отношении всего остального по сравнению с этими мыслями. Чтобы сделать такие абстрактные формы проблемой, подлежащей исследованию, требуется более высокий уровень культуры, чем обычный; а чтобы изучать Кроме того, изучение их самих по себе и ради них самих означает, что эти характерные типы должны быть выведены из ресурсов самой мысли, а их истинность или реальность исследована в свете их собственных законов. Мы не принимаем их как данные извне, а затем определяем их или демонстрируем их ценность и адекватность, сравнивая их с формой, которую они принимают в нашем собственном сознании. Если бы мы действовали таким образом, наш метод был бы основан на наблюдении и опыте, и мы должны были бы, например, сказать, что мы привычно используем термин «сила» в таком-то случае и в таком-то значении. Такое определение можно было бы назвать обоснованным или правильным, если бы оно согласовывалось с представлением о своем объекте, существующим в нашем обычном состоянии ума. Дефект этого эмпирического метода заключается в том, что понятие определяется не как оно есть само по себе, а в терминах чего-то предполагаемого, что затем используется в качестве критерия и стандарта правильности. Никакой такой проверки не требуется: мы просто должны позволить категориям оправдать себя в их собственной независимой жизни. Вопрос о том, когда категория истинна или нет, должен звучать странно для обычного ума: ведь идея или категория, очевидно, становится истинной только тогда, когда она отнесена к определенному объекту, а кроме этой отнесенности, казалось бы, бессмысленно доискиваться до ее истинности. Но именно от этого вопроса зависит все. Однако прежде всего мы должны четко понимать, что мы подразумеваем под истиной. В обыденной жизни мы называем истиной согласие между объектом и нашим представлением о нем. Таким образом, мы заранее предполагаем объект, которому должна соответствовать наша концепция. С другой стороны, в философском смысле слова истина может быть описана, в общем и одностороннем смысле, как согласие предмета мысли с самим собой. Это значение существенно отличается от приведенного выше. В то же время более глубокий и философский смысл истины можно частично проследить даже в выражениях обычного языка. Так, мы говорим о настоящем друге, подразумевая под этим друга, чья манера поведения соответствует понятию дружбы. Точно так же мы говорим о настоящем произведении искусства. Неистинное в этом смысле означает то же самое, что и плохое, или несогласованное с собой. В этом смысле плохое состояние – это неистинное состояние; и можно сказать, что зло и неистина заключаются в противоречии, существующем между категорией или понятием и существованием объекта. О таком плохом объекте мы можем сформировать в своем сознании правильный образ или представление, но факт, который этот образ представляет, по своей сути ложен. Образцы такого рода правильности, которые в то же время являются неправдой, очень часто встречаются в головах людей. Только Бог демонстрирует реальное совпадение понятия и действительности. Все конечные вещи содержат в себе неправду, они имеют понятие и существование, но их существование не соответствует требованиям понятия. По этой причине они должны погибнуть, и тогда несовместимость их понятия и существования станет очевидной. Именно в роде индивидуальное животное имеет свое понятие, а род выходит из этого индивидуального существования через смерть.