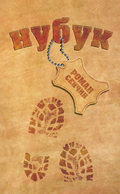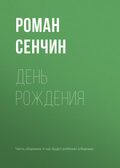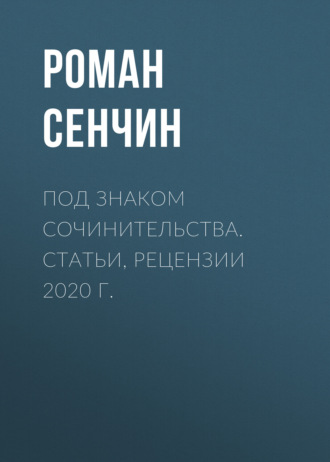
Роман Сенчин
Под знаком сочинительства. Статьи, рецензии 2020 г.
Объективный реалист
Чехов… 160 лет со дня рождения, 140 лет первой, документально подтвержденной, публикации. Казалось бы, далекое прошлое, окаменевший классик, книги которого должны зарастать благородной пылью на стеллажах, споры о котором давно стоит прекратить.
А нет – о Чехове спорят с той же горячностью, что и при его жизни, проза, пьесы, письма читаются не только новыми поколениями, но и перечитываются людьми взрослыми, с устоявшимися взглядами и оценками. Перечитываются, знаю, многими каждые несколько лет. И не столько ради удовольствия – а слог Чехове бесподобен, – но и в попытке понять, что именно хотел он сказать.
У русской, да и мировой художественной литературы, главная цель – не развлечение читателя, а выражение идеи. И писатель, захваченный ею, пытается донести ее до общества. Помочь ему найти и достичь идеал.
Конечно, в процессе писания и идея, и идеал зачастую видоизменяются, бывает, автору становится близка другая точка зрения и он начинает спорить с самим собой посредством героев, но тем не менее причина, заставившая человека взяться за перо, видна и очевидна.
Чехов не вписывается в эту канву. Он писал без идей, у него не было явного посыла читателю, в его прозе и драматургии нет морали… Интересно узнать, как отнеслись бы к нему Тургенев или Достоевский, но, слава богу, было многолетнее знакомство Чехова со Львом Толстым – знакомство, достойное самого пристального исследования.
Впрочем, такое исследование есть – двухтомник Владимира Лакшина, который читается как увлекательный документальный роман. И характерно, что почти каждая встреча двух писателей, очевидно симпатизировавших друг другу, превращалась в ожесточенный спор о смысле литературы, о жизни, бессмертии. Спорили они друг с другом и заочно – в разговорах, письмах третьим лицам.
Чехов не принял идею «Воскресения», Толстой, называя Чехова «большим художником», добавлял – «но все-таки это мозаика, тут нет руководящей идеи» – и пытался выдумать идею за него, например, в послесловии к посмертному изданию чеховского рассказа «Душечка».
Современные Чехову критики так и вовсе были в замешательстве, которое переходило в негодование: «Пишет холодной кровью!», взрывалось вопрошанием: «Есть ли у господина Чехова идеалы?»
После появления «проблемных» произведений вроде «Палаты № 6», «Три года», «Мужиков», «Человека в футляре», «Острова Сахалина» Чехова стали воспринимать как обличителя недостатков и пороков; эта оценка главенствовала и всё советское время. Чехов, казалось, в полной мере показал готовую к революционным изменениям страну. Страну, томящуюся по этим изменениям.
С точки зрения социологии, это, быть может, верно. Но почему он, за исключением разве что Нади, героини рассказа «Невеста», последнего его рассказа, никому не дал сделать шаг к «новой, ясной жизни»? Да и получится ли у Нади закрепиться в ней – вопрос.
«…На другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город, – как полагала, навсегда». Этим «как полагала» автор словно намекает, что не все в ее судьбе определилось.
Абсолютное же большинство чеховских героев только говорят о «новой, ясной жизни», о созидании, «об идеалах», на деле же всё сильнее погружаясь в болото обыденности. И если Ирине из «Трех сестер» вырваться мешает трагическая случайность, то многим другим вроде бы не мешает ничто.
Почему, скажем, герой «Палаты № 6» Андрей Ефимыч Рагин не пытается преобразить свою больницу? Что мешает героиням рассказа «У знакомых» зажить наконец осмысленно и деятельно? Почему герои «Новой дачи» оказываются настолько слабовольными? Почему герои «Дамы с собачкой», по-настоящему полюбившие друг друга, не ищут возможности стать действительно парой?…
Можно, конечно, сказать, что Рагин попросту бытовой алкоголик, а Гурову с Анной Сергеевной хочется оставаться любовниками, но это будут версии, а не ответы. Над ответами мы бьемся уже сто с лишним лет.
Нормальный русский писатель, взявшись за «Мужиков», сделал бы Ольгу, городскую, культурную, лучом света в темном деревенском мире. Она бы облагородила дом родни своего мужа, она стала бы учить детей, но вместо этого она плывет по течению и в итоге надевает нищенскую суму.
Кстати, Лев Толстой воспринял этот рассказ Чехова как «грех против народа», утверждал, что мужики, деревня – не такие, Чехов, дескать, попросту не знает русского человека.
Знал, конечно, Чехов русского человека. И сюжет «Мужиков» он не придумал. Этот сюжет был порожден тысячами судеб таких же Ольг и их детей. Но, с другой стороны, обошелся он со своей Ольгой жестоко… Или не жестоко, а – объективно?
Слово вроде бы не из чеховского лексикона, но оно очень часто встречается в его эпистолярном наследии. В письмах литераторше Лидии Авиловой он буквально проповедует объективный метод: «Над рассказами можно и плакать, и стенать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не заметил. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление».
Объективность у Чехова не только в манере повествования, но и в подборе персонажей. Да, толстовскую Каренину, которая бросилась под поезд, жалко, но куда жальче Анну Сергеевну, которая не бросится, а будет страдать долго-долго, убивая месяцы жизни от одного свидания с Гуровым до другого. Да и в реальной жизни Анна Каренина – одна на десятки тысяч, тогда как Анна Сергеевна… Я уверен, что Анн Сергеевн куда больше.
Чехов не писал статей, но из его писем, разговор с близкими, общественной деятельности ясно видно, что он хотел и стремился к преобразованию мира, людей. В длинном послании старшему брату Николаю в марте 1886 года, накануне своего перехода из «юмористов» в «серьезные», он выложил буквально по пунктам черты «воспитанного человека», да что там – почти идеального.
Казалось бы, вот и создавай в прозе такие типы, воспитывай не одного брата, а всё человечество. Но создавать в том смысле, в каком это делают сочинители, Чехов, кажется, не умел или не хотел. Он придерживался правды жизни, а не правды художественной. Получал оплеухи от критиков, замечания и нарекания об близких, даже от невесты. Тяжело их переживал. Но путь объективного реалиста и не может быть легким.
Январь 2020
Ушел ли поезд?
В конце прошлого года появилась надежда на то, что положение толстых литературных журналов России поправится… Теперь уже, наверное, многим стоит напоминать, а то и рассказывать как новость, что они – культурное достояние страны, дневник русской словесности. С конца XVIII века почти все значимые произведения появлялись на страницах этого огромного дневника. Издания книг шли, как бы мы сейчас сказали, бонусом.
Вернее, так было до самого последнего времени. Лет двадцать назад журналы стали чахнуть и умирать. Популярные авторы предпочитают нести свои новые вещи сразу в издательства, а многие молодые о «толстяках» и понятия не имеют. Исчезают они и из фокуса общественного внимания.
Это печально. Не читающие такие издания обделяют себя, суживают свое сознание. Ведь каждый номер любого журнала – целый срез разных родов литературы, спектр мнений, творческих методов, мировоззрений.
Для начинающих авторов до сих пор, несмотря на плачевное положение «толстяков», нет лучшей площадки для дебюта. Многие молодые прозаики и стихотворцы штурмуют издательства, драматурги – театры. Везет из тысяч единицам. Издательствам, театрам не нужны абсолютно неизвестные имена: читатель не купит книгу, зритель не пойдет на спектакль. Нужно, что называется, засветиться. Журнальная публикация не гарантирует того, что наутро ты проснешься знаменитым, но шанс есть.
Впрочем, шанс всё менее верный. Критики и литературные журналисты обращают внимание на журналы реже и реже. Нагляднейший пример: в майском за 2014 год номере «Сибирских огней» было напечатано начало романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». И – ни единого отклика. Но через год вышла книга – и они, в основном восторженные, посыпались как из рога изобилия. Хвалили больше всего именно начало романа. Что это показывает? То, что «Сибирские огни» критики попросту не открывают. Как наверняка и остальные журналы.
А каких-нибудь лет пятнадцать назад в большинстве центральных газет были ежемесячные обзоры толстых журналов, отдельные публикации порождали статьи, а то и дискуссии. Теперь этого не найти – теперь и о книгах в газетах пишут изредка; литература возникает как правило в связи с объявлением лауреатов заметных премий…
Журналы, колыбель и фундамент нашей литературы, гибнут. Не фигурально, а вполне реально. Несколько лет назад перестал выходить «Континент», как-то тихо скончалась «Литературная учёба», одиннадцать месяцев не выходил «Октябрь», прекратился журнал поэзии «Арион»; под вопросом издание петербургской «Звезды». Остальные журналы влачат поистине нищенское существование.
Да, это не преувеличение. В начале нулевых они были бедными, теперь – нищие. Некоторые лишились редакционных помещений, штат сотрудников сокращен уже не до минимума, а сверх него – нередко работу двух-трех отделов выполняет один человек. Какой бы он ни был двужильный, он не в состоянии внимательно читать поступающие материалы, не говоря о тщательной редактуре.
Я застал журналы в относительно полной штатной комплектации. Когда редактор посвящал работе с автором многие дни. Сидели в отдельном кабинете над рукописями, вычитывали каждый абзац, обсуждали, обдумывали… В светлых помещениях за специальными столами размещались три-четыре корректора…
Сейчас и уровень редактуры упал, и ошибки проскакивают то и дело. Некому работать – нет денег. (В «Дружбе народов», я слышал, сотрудники вообще не получают зарплаты, и уже не один год.) Гонорары стали чем-то из прошлого; если их и выплачивают, то это крохи, впрочем, нередко крохи необходимые – толстожурнальные авторы, особенно стихотворцы и критики, тоже обнищали до последней степени.
Часто слышатся голоса: журналы должны зарабатывать. С одной стороны, это справедливо. И при Краевском, Некрасове, Каткове их детища финансово процветали, и в советское время «толстяки» были, кажется, делом очень прибыльным. Тиражи в сотни тысяч экземпляров, подписка по лимиту, очереди возле киосков «Союзпечати».
Сейчас тиражи даже у самых именитых журналов не больше четырех тысяч. Да и то не расходятся. Хотя тиражи теперь ничего не значат – бумагу стремительно поглощает интернет.
У «толстяков» есть свои сайты плюс две огромные платформы – «Журнальный зал» и «Журнальный мир», – где выкладываются их номера, начиная с середины 1990-х. Это уникальная библиотека.
Но у такого рода абсолютно бесплатных сайтов и платформ есть и минус. Некоторые журналы выставляют свежие номера раньше выхода бумажного тиража. И, скажите, какой чудак станет подписываться на журналы или бежать в редакции, слать запрос в «Лабиринт», чтобы купить?
По привычке я утверждаю, что бумажную книгу, бумажный журнал читаешь с большим интересом и вниманием. Но утверждаю всё менее уверенно – бытие определяет сознание, а бытие наше, как ни крути, погружается в компьютеры, планшеты, смартфоны… Однажды меня посетила, наверное, бредовая идея, которая, впрочем, не дает покоя. Представим, что «Новый мир», «Знамя» или любой другой толстый журнал берут откуда-нибудь круглую сумму и переманивают ею из издательств Пелевина, или Улицкую, или Акунина, или еще кого популярного… Делают сайт платным, объявляют точки, где можно купить бумажные экземпляры. И читатель наверняка ринется к реальным или виртуальным прилавкам. Тысячи, если не десятки тысяч людей буквально подсажены на того или иного автора. Им необязательно читать его в книге – им нужно быстрее, хоть где… А в одном номере с популярными печатать молодых или тех, кто не очень-то на слуху…
Так, по сути, когда-то и было. С тем же молодым и уже тогда (начало 90-х) популярным Пелевиным – автором «Знамени». Почему не рискнуть? Или поезд ушел?
Январь 2020
С запозданием в четверть века
Вардван Варжапетян. Кое-что про Тинякова. М.: Common place; Ной, 2019
В одном из январских эфиров на «Эхе Москвы», отвечая на вопрос радиослушателя, кого из поэтов Серебряного века он бы назвал самым недооцененным, Дмитрий Быков ответил: Михаила Савоярова. И, объясняя особенности его творчества, упомянул: «Знаете, немножко это похоже на Тинякова. Но Тиняков настолько омерзительная личность и как исторический герой, и как автор – что мы будем скрываться от этого факта… Вот, кстати, кто Брюсова боготворил и взял из его учения какие-то худшие черты. Тиняков производит впечатление омерзительное, а Савояров – впечатление трагическое…»
Я скопировал кусок о Савоярове и Тинякове с сайта радиостанции и поместил в свой «Фейсбук» со словами: «Дмитрий Львович Быков снова наехал на Александра Ивановича Тинякова».
Дело в том, что Быков периодически упоминает его, но кратко и с одинаковой характеристикой. Впрочем, Тиняков в образе литератора Одинокого выведен им в романе «Остромов, или Ученик чародея» (2010 год), где тоже предстает фигурой омерзительной, да вдобавок, по мысли другого персонажа, Льговского: «Одинокого в самом деле никогда не тронут: посадят всех, в том числе вернейших, – а этот, как памятник бессмертной, неприкосновенной низости, образцовый минус, от которого станут отсчитывать всё, будет стоять у себя на Измайловском или где он ещё там стоит в центре своего кружка… Он переживёт всех и останется, может быть, последним, округлый, нечёсаный, страшный, пахнущий сырым мясом. Время благоприятствовало теперь ему, ибо всё остальное не вышло, а Одинокому была самая пора».
Льговский ошибся, реальный Одинокий (псевдоним Александра Тинякова) был арестован в 1930 году за антисоветскую агитацию и заключен «в концлагерь сроком на три года» (так в приговоре).
На то, что Одинокий в романе и есть Тиняков, Дмитрий Быков указал сам, когда разгорелся небольшой скандал – кое-кто увидел в персонаже Быкова шарж на критика Виктора Топорова. «Помилуйте, как можно! – отозвался Быков. – Описанный в романе персонаж – литератор Одинокий – это вполне реальный Александр Тиняков, хоть и безобразный человек, но талантливый поэт».
И, сопровождая цитату о Савоярове и Тинякове словами «снова наехал», я надеялся (и надеюсь) спровоцировать Дмитрия Львовича на эссе о «безобразном человеке, омерзительной личности, но талантливом поэте». Многолетнее внимание Быкова, человека, способного мыслить и изъясняться свежо и нетривиально, к Тинякову очевидено.
Мой пост прокомментировал литературовед из Эстонии Борис Тух: «Тиняков до революции писал черносотенные статьи, а после работал в ЧК, присутствовал при расстреле Гумилева и др. членов никогда не существовавшего „таганцевского заговора“. Кажется, этого достаточно». (Надо понимать, достаточно для «наезда».)
Борису Туху ответил другой литературовед, автор огромной биографии Оруэлла Вячеслав Недошивин: «Борис, для меня ново, что Тиняков (в 20-х гг. прикидывавшийся нищим – это видела Ахматова) участвовал в расстреле Гумилева. О его расстреле вспоминал поэт Сергей Бобров и то – со слов знакомого чекиста. Откуда же вы взяли Тинякова? Я, правда, не читал только что вышедшую книгу о Тинякове моего знакомца Вардвана Варжапетяна. Может, там?…»
Так я узнал о книге, которая называется «Кое-что про Тинякова».
Через несколько дней моя жена ехала в Москву, и я попросил ее эту книгу привезти. (Кстати, в начале наших отношений, когда люди стараются больше узнать и рассказать друг другу, речь вдруг зашла о Тинякове, и будущая жена сказала, что читала его статьи о евреях и была возмущена, а теперь вот как любящая женщина, должна была раздобыть книгу о ненавистном ей персонаже истории, который является предметом интереса ее мужа. Бывает.)
И вот книга передо мной. Она мной прочитана за день – в ней меньше двухсот страниц, шрифт крупный, много воздуха, один материал отделен от другого широким интервалом… Да и не только поэтому прочитал так быстро – содержание оказалось мне абсолютно знакомым.
Вардван Варжапетян – писатель, переводчик, главный редактор издававшегося в 1990-е, очень заметного журнала «Ной», автор двух десятков книг. Кроме этого именно он вернул из небытия фигуру Александра Тинякова. Помню, какой интерес вызвала его повесть в документах «Исповедь антисемита», опубликованная в 1-м номере «Литературного обозрения» за 1992 год. Затем, с некоторыми сокращениями (без авторского предисловия), она была опубликована и в журнале «Ной» (1994, № 8), там же (1995, № 15) вышла вторая повесть в документах «Смердяков русской поэзии», посвященная дебютной книге стихов Тинякова.
Спустя двадцать с лишним лет в «Экслибрисе» – литературном приложении к «Независимой газете» – к 130-летию со дня рождения Тинякова, была опубликована статья Вардвана Варжапетяна «Хождение за Тиняковым». В ней рассказывалось, как он узнал об этой фигуре, как в Ленинграде конца 80-х разыскивал тех, кто знал его лично, как собирал в библиотеках тиняковские публикации, публикации о нем…
Кстати, в предисловии к «Исповеди антисемита» в «ЛО» есть сноска, принадлежащая то ли автору, то ли редакции журнала: «Публикуемая повесть – лишь малая часть большой (около полутора тысяч страниц) работы о А.А. (так в журнале – Р.С.) Тинякове».
Помня это замечание я и ожидал увидеть в книге Варжапетяна эту работу. Пусть не все полторы страницы, но… А книга оказалась повторением уже опубликованных в 1992–1995 и в 2016 годах работ. Два-три документа исчезли (в том числе и предисловие из «Литературного обозрения»), три-четыре добавились.
Книга вызывает и недоумение, и обиду за автора. И вопрос – зачем она издана в таком виде?
Повесть «Исповедь антисемита» была событием. Она открыла нам забытый, но яркий скандал эпохи Серебряного века. Вкратце сюжет.
Во время процесса над евреем Бейлисом, обвиняемого в ритуальном убийстве православного подростка Ющинского в газете «Земщина» появились две грубые антисемитские статьи за подписью Куликовского. Спустя два года выяснилось, что под псевдонимом «Куликовский» выступал Александр Тиняков, ранее много публиковавшийся в либеральной газете «Речь» и теперь являвшийся автором демократических изданий. Тинякова стали порицать, и он выступил с покаянной статьей «Исповедь антисемита», где сообщил, что в «Земщину» его привел уважаемый в прогрессивных кругах Борис Садовский. Садовского, дворянина, простили, готовы были простить и крестьянского сына Тинякова, но тот продолжал печатно оправдываться и в то же время атаковать, и одну из своих статей напечатал все в той же «Земщине». Тут ж с ним разорвали отношения практически все, и Тиняков на несколько лет исчез из литературного мира Петрограда…
Повесть интересна своими документами, ранее (до 1992-го) по большей части неопубликованными. Да и опубликованные в сложившемся контексте стали восприниматься иначе. Например, в собрании сочинений Блока 1960-х есть такие строки из записной книжки: «Обедал у нас Ал. Ив. Тиняков – он стоит пятидесяти Левберг и Тумбовских, которых зовет к себе З.Н. Гиппиус». Вроде бы ничего особенного, но, оказывается, Блок принимал у себя Тинякова через несколько дней после открытого (под своей фамилией) возвращения того в «Земщину».
Есть в повести Варжапетяна и не вошедшее, кажется, в то собрание сочинений Блока письмо Тинякову, написанное в те же дни. Блок признается: «Мы с Вами почти одинаково думаем о евреях. Я не раз высказывал и устно и письменно (хотя и не печатно) – евреям и неевреям – мысли, сходные с Вашими; иногда и страдал от этого, хотя далеко не так, как Вы».
В нынешней книге повесть «Исповедь антисемита» составляет вторую часть, первую же – «Смердяков русской литературы (История одной книги)». Повторюсь, первой книги Тинякова (1912), состоящей из подражания то Бодлеру и Брюсову, то Бунину и Фету; «Смердяковым» назвал его, а вернее, одного из персонажей своей книги «Перед восходом солнца» Михаил Зощенко, прочитав третью (и последнюю) его книгу, вышедшую в 1924 году, но зачем-то автор предваряет повествование в документах о первой книге таким вот пассажем:
«Александр Тиняков явил собою в самой законченной форме тот тип российского интеллигента, замороченного идеей великорусского шовинизма, который оказался поразительно живуч, мерзок и опасен. Вместе с тем А.Тиняков – один из самых своеобразных представителей Серебряного века русской поэзии, который с полным основанием можно назвать и Золотым веком русского антисемитизма. Он знал всех, его все знали, дарили ему на память книги, писали стихи в альбом».
Во-первых, эти строки могли бы стать общим предисловием к книге, но никак не к одной ее части, в которой, повторюсь, Тиняков предстает эпигоном самых разных поэтов, смиренным участником литературного процесса, удостаивающимся скупых похвал мэтров.
Во-вторых, где доказательства того, что Серебряный век русской поэзии стал Золотым веком русского антисемитизма? Да, в той или иной степени антипатию к евреям испытывали многие литераторы, писавшие на русском языке (в том числе и Чехов, и, как мы увидели, Блок), но с другой стороны, именно литераторы Серебряного века, подняв поистине всероссийский шум, добились освобождения Бейлиса, сильнее всех осуждали еврейские погромы и собирали средства пострадавшим…
Вышеприведенные строки о Тинякове-шовинисте перекочевали в книгу из журнальной публикации. Там они выглядят более-менее уместными, как попытка кратко объяснить, что за фигура главный герой. Здесь же, после подробного «Хождения за Тиняковым», они вызывают недоумение – они и неточны, и излишни.
Вообще книга оставляет ощущение небрежности, спешки или лени. У автора была четверть века, чтобы после первых публикаций представить нам книгу в строгом смысле этого слова, а получилось как в песне: «слепила из того, что было». Читатель не в теме так и вовсе может повредиться умом, натолкнувшись на такое: «Вот такая фигура! В этом номере вестника („Ной“. М., 1994. № 8) читатели узнают историю первой книги Тинякова…»
Что за «Ной»? При чем здесь 1994 год? (Тем более публикация этой повести на самом-то деле состоялась в 15-м номере «Ноя», в 1995-м.) И ведь автор не просто забыл убрать этот фрагмент – в самом журнале он выглядел так: «Вот такая фигура! В этом номере вестника читатели узнают историю первой книги Тинякова…» Если автор хотел напомнить о первой публикации, о «Ное», который когда-то возглавлял, то это можно было сделать как-то более изящно, что ли.
На 99 процентов книга состоит из документов, которые, в общем-то, представляют нам Тинякова, скажем мягко, в темном цвете. Авторский голос почти отсутствует, но тем не менее слышно осуждение и некоторая брезгливость. Самого автора заинтересованный читатель, открыв его биографию, может узнать как стойкого и давнего борца с антисемитизмом. Хорошо. Но тогда вот эта деталь в самом-самом начале книги приводит в недоумение: «Конечно, хотелось бы узнать, где могила А.И. Тинякова, – если она сохранилась, положить цветы; если разрушена, поставить скромный памятник». За что такому человеку цветы?…
Ответом могло бы стать предисловие из «Литературного обозрения», где Варжапетян признается: «Не оправдывая тиняковские гнусности, „тиняковщину“, замечу, что не будь их, Александр Иванович стал бы совсем иным человеком – чистеньким, приличным, трезвым, пахнущим одеколоном… и совершенно мне неинтересным. А истинный Тиняков мне с каждым днем роднее; пусть у него нет, как у великих, своего пространства в русской поэзии, но угол-то свой есть».
Такое бывает с писателями: первоначальный враг автора становится ему родным. Отсюда и цветы, и памятник. Но предисловие отсутствует, и читатель этот момент вряд уловит.
А в самом конце книги есть рисунок немолодого, седого (умер, кстати, в 48 лет) Тинякова работы Серафимы Даниловой. Примечание: «Публикуется впервые». Но рисунок – точнейшая, словно компьютером обработанная, копия фотографии, помещенной в «ЛО» в 1992 году.
И теперь самое, на мой взгляд, важное.
С 1992 и 1995 годов, когда Вардван Варжапетян предъявил обществу первые части своих исследований судьбы Тинякова (а он установил и год его смерти, и множество подробностей его жизни), вышли два издания сборников тиняковских стихотворений, были опубликованы десятки и десятки статей, в том числе Николая Богомолова, Никиты Елисеева, Нины Красновой, Михаила Вольпе, Олега Лекманова, Марии Котовой, Владимира Емельянова, Глеба Морева, Дмитрия Воденникова… Достоянием общественности стало множество архивных документов; в 1998 году Тиняков был реабилитирован как все, осужденные «тройками», и его уголовное дело стало доступно любому человеку. А в этом деле, в качестве вещдока, страницы такого дневника!
Да, Вардван Варжапетян – первопроходец. Но на фоне всего того, что мы теперь знаем о Тинякове, представленные плоды первопроходчества вызывают сочувствие к автору. Он словно бы остался в середине 90-х, спал двадцать лет, и вдруг пробудившись, решил собрать две те повести в документах под одной обложки, добавив историю о том, как он тридцать лет собирал для них материал…
Найди в себе силы, сделай третью часть, например, о Тинякове и Акиме Волынском (Хаиме Лейбовиче Флексере), который опекал и, кажется, ценил Тинякова, благодаря которому тот имел площадки для публикаций, вступил во Всероссийский Союз писателей, и после смерти которого вышел просить милостыню с табличкой на груди «Подайте поэту, впавшему в нужду»… Да, будь у книги третья часть, и книга бы состоялась. А так – нечто кое-как слепленное из старого теста. И название книги – «Кое-что про Тинякова» (кое-что, а не всё) – такой подход не оправдывает.
…В начале 2017 года в журнале «Урал» вышел мой рассказ под названием «Дедушка», в котором я попытался представить последние часы жизни Александра Тинякова. Через несколько месяцев раздался телефонный звонок – это был Вардван Варткесович Варжапетян. К моему удивлению, он поблагодарил меня за то, что я написал о Тинякове, сказал, что это интересная личность, а потом спросил: «А где можно прочесть ваш рассказ?» Я с некоторым удивлением назвал номер журнала. «А не подскажете, в Москве я могу найти этот номер?» Первым делом я посоветовал интернет. «Интернетом, я к сожалению, не пользуюсь», – сказал Вардван Варткесович.
Да, он человек немолодой, но… Может быть, действительно, он пропустил всё, что появилось в том числе и в интернете о Тинякове за это время? Не знает, что и номера «Ноя» там достаточно легко обнаружить? Что обнародованные им документы давно пущены в литературоведческий оборот?
И выдал свои четвертьвековой давности открытия как новость.
Январь 2020