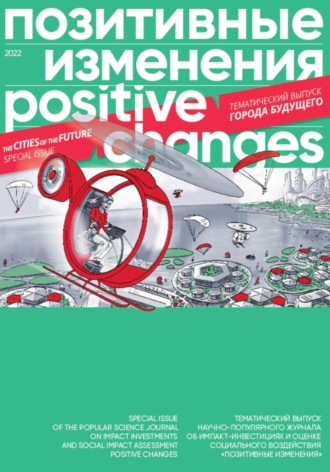
Редакция журнала «Позитивные изменения»
Позитивные изменения. Города будущего. Тематический выпуск, 2022 / Positive changes. The cities of the future. Special issue, 2022
The primary hypothesis of the pilot project was built around dialogue and collaboration within the community:
Thesis 1: the consolidation of the local community with the participation groups of residents in the same area but with different values and interests is a more effective form of solving local problems than the initiatives of individual activist groups or residents.

By building the pilot project around certain values and concepts, the Foundation expected that its participants would:
• purposefully include representatives of vulnerable groups as project beneficiaries;
• seek to create points of growth in the local economy;
• try to avoid an infrastructural focus and prefer a social focus rather than performing beautification or conducting festivals;
• study the social environment of their territories – surveying residents, discussing their needs and taking them into account in the design and implementation of projects;
• create partnerships with the groups they haven’t worked with before;
• build the projects around the opinions and interests of the majority of residents.
The Foundation selected three regions of the Russian Federation to pilot the project in 2021: Nizhny Novgorod Region, Perm Krai, and Arkhangelsk Region. After analyzing the results, the project concept was expanded to include two more regions – Primorsky Krai and Samara Region. In 2022, the competition became harder for the applicants. They had one more condition to meet – conduct small opinion surveys in their territories and discuss the needs and problems with local residents. At the same time, the focus on involving and including not only a few recognized opinion leaders, but also residents "disengaged" from such activity, including representatives of vulnerable groups living in the territory – was strengthened and included in the requirements for applications and in the evaluation criteria.

The hypothesis was supplemented with a new thesis reflecting the influence of local communities on the economic development of the territory.
Thesis 2: The development of local communities can generate new economic forms of activity in the territory and contribute to its development in the long term.
The pilot stage of the project is still a few months away; the final assessment of the effects will be obtained in February 2023. However, there are a number of conclusions that the Foundation has already made for itself at this stage after working in this direction for almost two years.
1. The closer and clearer the subject matter of the project is to the majority of local residents, the greater response and engagement it generates. In both 2021 and 2022, projects related to area beautification and leisure (sports, culture, tourism) accounted for about 60 % of the total number of winners.
2. The more compact the area, the more engaged residents are, because the ties within the community (social capital) are higher. According to the interviews conducted by the Foundation with the applicants, in small towns and large villages with populations over 1,000 people, project authors claim it is physically impossible to engage the majority of the residents, as there are too many people and no reason for close communication between them.
3. Experienced leaders from NGOs and state-budget institutions find it harder to work with a wide audience from a community perspective, because there is a tradition of acting in the interests of some narrow target group.
4. In rural areas, there is a tradition of caring for some vulnerable groups, sometimes not even recognized as a special form of work. However, it still seems hard to engage the vulnerable groups as co-actors, not beneficiaries.
5. Quickly and simultaneously achieving both parts of the hypothesis – economic points of growth and community consolidation involving vulnerable groups – seems unattainable at the moment. In order to build such a complex construct and change the residents’ behavioral patterns, a longer period of constant work is needed (2–3 years at least).
6. It is possible for the local community to generate economic growth points, but this requires outside support.
In 2021, Solidarity Communities had only two projects aimed at developing the local economy – souvenirs from Kargopol in the Arkhangelsk Region and a pretzel festival in Vladimirskoe village, in the Nizhny Novgorod Region.
In 2022, there are already six such projects. The Arkhangelsk Region is the leader, with four projects (Vlasyevskaya, Erkino, Solvychegodsk, Ust-Pocha); the Perm Krai (Lysva) and the Samara Oblast (Avgustovka) follow with one project each.
JUSTIFICATION OF THE VLASYEVSKAYA VILLAGE APPLICATION
"There are no jobs in the village, no store, no club, no post office. Our project aims to give the inhabitants of our village the opportunity to realize themselves in handicrafts, to share their knowledge and skills with each other, to teach them the techniques and opportunities for selling their products. And finally, to help them see an opportunity of making extra income from the sale of handmade goods."
"Economic" projects carried out within the framework of Solidarity Communities cannot yet claim to be drivers of territorial development. But they do have a few things in common:
• These are the projects run by enthusiasts, amateurs in the field of business;
• Above all, the projects lack planning – not only the prospects are omitted from of the applications, they are not even visualized. These are experiments;
• It is noteworthy that none of the projects, except for the Ust-Pocha application, are oriented toward external markets. Participants intentionally separate themselves from the general audience.
But with proper development and support, they can become more effective.
EPILOGUE
Territory development is a complex concept. It includes economic indicators, social activity of the residents, and availability of infrastructure elements (rural health posts, schools, roads, etc.). Of course, in a broad sense, it is impossible to develop a territory based solely on the actions and resources of activists and the ABCD approach. But they can set this process in motion, turning a depressing and dreary territory into something completely different.
According to the Living Cities national initiative, 1 % of the population of any territory are change leaders. Those with the power to initiate and guide the actions of the people around them, for the good or otherwise. For all the diversity and inconsistency of theoretical and practical approaches to community concepts, the actions of these individuals – indifferent, compassionate, persistent, and good-natured – are evident all over the country, in a variety of spheres.
They create "telephone chains," helping lonely elderly ladies regain or rebuild their social circle and avoid social isolation.
They collect the stories of their grandparents and create the Forgotten Villages Museum.
They help parents of children with disabilities get at least a little rest and support, organize wheelchair-accessible events or performances that can be watched in total darkness on an equal footing with others.
They help teenagers find their place in the city by working with them to build demo versions of the spaces they dream of using nothing but cardboard boxes and bags. Eventually, those spaces materialize in real life.
Communities can be different, some are just emerging, others have been around for decades. These could be urban apartment building / yard chats: or a village-wide chat of 108 people. These can be associations of professionals and leaders in the field or just a company of old friends, helping shelters out of pure kindness, or sorting garbage because of their personal beliefs.
As the Foundation’s extensive experience shows: in order to change the world for the better, you just have to start acting.
The author is grateful for the help in creating this material to the following outstanding individuals: Maria Morozova, Irina Kalistratova, Tamara Slavinskaya, Ivan Tarasov, Dmitry Lisitsin, Peter Ivanov, Elena Serebrennikova, Veronika Suvorova, Dmitry Mashin, Anna Kuznetsova.
Исследования / Research Studies
Насколько устарело наше будущее? Гипотезы об изменениях приоритетов муниципального управления
Алексей Гусев, Виталий Кунашко
DOI 10.55140/2782-5817-2022-2-S2-60-67

Образ будущего не является чем-то постоянным. Особенно это очевидно в наши дни, в России, когда за последний год условия развития городов кардинально изменились. Тем более важно наблюдать изменения и делать выводы в текущем моменте – когда происходят тектонические сдвиги во всех сферах жизни и деятельности общества. Анализу и фиксации такого «момента» в пространстве муниципального управления посвящено исследование, проведенное Школой Управления СКОЛКОВО.

Алексей Гусев
Директор по аналитике в государственном секторе Школы Управления СКОЛКОВО

Виталий Кунашко
Аналитик Школы Управления СКОЛКОВО
Осенью 2021 года мы в Школе Управления СКОЛКОВО завершили программу обучения команд 100 крупнейших городов России, это была самая масштабная в стране программа подготовки управленцев для муниципального уровня. Мэры городов в присутствии губернаторов и руководителей федеральных агентств «защищали» проекты в области устойчивого развития, новых отраслей экономики, инфраструктуры и благоустройства. Эти проекты – «слепок» того образа будущего, которое нам вместе с городскими командами удалось сформировать в результате долгой и часто непростой работы.
С того момента прошел ровно год и за этот период внешний контекст поменялся так радикально, как никто не мог себе представить. Метафорически выражаясь, наше видение будущего успело несколько раз устареть. Поэтому, проектируя новую программу для городских команд, мы решили провести помимо формального мониторинга прошлогодних проектов дополнительное миниисследование – серию интервью с мэрами и другими участниками прошлогодней программы. В выборке интервью были города из Центрального, Поволжского и Уральского округов, областные центра, малые и средние города. Разумеется, 10 глав муниципалитетов нельзя назвать репрезентативной выборкой, поэтому в рамках этого текста мы сформулируем несколько исследовательских гипотез, которые только предстоит проверить в рамках продолжения нашего исследования, а также непосредственно в динамичном общественном процессе. Кажется важным зафиксировать эти гипотезы как «отпечаток» нового времени – контрольную точку, на которую мы сможем оглянуться из будущего, чтобы сверить свои прогнозы.
ГИПОТЕЗА 1: НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БЮРОКРАТИИ ПОВЕСТКА РАЗВИТИЯ ЗАМЕЩАЕТСЯ ПОВЕСТКОЙ СОХРАНЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
Сегодня для всех, кто занимается тематикой городского, регионального, пространственного развития очевидно растущее несоответствие «повестки будущего» и «повестки настоящего». Это несоответствие существовало и раньше, мы в Школе Управления СКОЛКОВО регулярно его наблюдали, работая с командами региональных и муниципальных администраций. Мы видели, что концепции «устойчивого развития», «смены технологического уклада», «энергоперехода» на муниципальном уровне гораздо менее интегрированы. В ходе проектной работы на программе становилось очевидно, что дело не в непонимании терминов – как раз в терминах любой госслужащий ориентируется достаточно неплохо. Дело в дистанции между терминологией федеральных экспертов и реальностью регионального и муниципального управления. Грубо говоря, авария на котельной ограничивала темпы энергоперехода, а действия контролирующих органов способствовали наступлению сингулярности, но вовсе не в понимании автора этого термина Реймонда Курцвейла.
До 2022 года эта дистанция была функциональной: играла роль стимула для развития, была полезным инструментом обнаружения проблем. Во многом для этого и существуют образовательные программы – чтобы «вытаскивать» менеджеров из повседневной бюрократической рутины и «обновлять прошивку» управленческих навыков.
По состоянию на октябрь 2022 года «повестка развития» продолжает по инерции частично существовать на уровне целеполагания федеральных органов власти, однако на региональном и муниципальном уровне несравнимо более актуальной становится «повестка удержания стабильности». Можно перечислить темы, которые чаще всего упоминались в ходе интервью в октябре 2022 года и сравнить их с ключевыми темами итоговых проектов на программе для городских команд в октябре 2021 года.


Разумеется, сравнение в вышеуказанной таблице нельзя считать «научно обоснованным»: мы сравниваем ситуацию публичной защиты городских проектов в рамках сколковской программы «при начальниках» и ситуацию участия в интервью. Очевидно, что во второй ситуации мэры как респонденты готовы к несколько более откровенному перечислению проблем. Вместе с тем, переоценивать этот фактор не следует: обобщенная готовность к высказыванию любого мнения, отличного от официального, радикально снизилась за год, особенно для госслужащих. Поэтому на основе сравнения мы выдвигаем гипотезу о постепенном замещении «повестки развития» «повесткой стабильности».
ГИПОТЕЗА 2: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ НАХОДИТСЯ В АВАНГАРДЕ «ПЕРЕСБОРКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА»
Одним из наиболее интересных «инсайтов», полученных в ходе интервью, было упоминание одним из глав администраций «запроса на новую редакцию общественного договора» (практически дословная цитата). Аргументы респондента были следующими. Повышение требований со стороны государства к населению[31] накладывает дополнительные обязательства на муниципалитеты как на наиболее «близкий к народу» уровень государственной власти.
Эта тенденция наиболее заметна в малых городах, где сотрудников городской администрации часто «знают в лицо» (говоря социологическим языком – существенно ниже «дистанция власти»[32]). При нарастании кризисных явлений в экономике и социальной сфере дистанция власти в отношении муниципального уровня управления будет снижаться значительно быстрее, чем в отношении федеральной власти. Как следствие, муниципальным властям придется оперативнее реагировать на новые запросы со стороны горожан. Этот процесс может стать одним из определяющих для формирования городской «повестки» в ближайшие годы.
Муниципальным властям придется оперативнее реагировать на новые запросы со стороны горожан. Этот процесс может стать одним из определяющих для формирования городской «повестки» в ближайшие годы.
Приведем высказывание одного из мэров малых городов (население менее 50 тысяч человек): «В последний месяц люди на улице стали гораздо чаще останавливать и даже не просить помощи, а почти требовать объяснить происходящее, и никто не хочет слышать, что решения принимаются в Москве, а мы только исполнители». Как уже было сказано, на базе 10 интервью невозможно оценить, насколько распространенным является увеличение «спроса» со стороны населения на прямую коммуникацию и формулирование новых социальных гарантий. Однако, в качестве исследовательской гипотезы можем предположить, что такой процесс начнется не с мегаполисов, где уровень притязаний горожан итак достаточно высокий, а с малых городов – именно в силу более низкой дистанции власти.
Отметим, что все усилия федерального центра в предыдущие годы были направлены на повышение подотчетности муниципальных администраций центральной «вертикали»[33]. События 2022 года могут стать неожиданным триггером изменения сложившегося тренда. Проще говоря, сотрудники администраций малых и средних городов будут вынуждены искать новый баланс между растущим «прессингом» с двух сторон – как традиционным со стороны федерального и регионального уровней, так и относительно новым – со стороны части городского населения, испытывающего тревожность в отношении безопасности и перспектив социальной стабильности.
В качестве исследовательской гипотезы можем предположить, что «спрос» со стороны населения на прямую коммуникацию с представителями власти начнется не с мегаполисов, а с малых городов.
Интервью с главами муниципалитетов проводились в первой половине октября, то есть после объявления мобилизации, но до указа Президента России о введении специальных режимов (средний уровень реагирования и повышенный уровень готовности) и формировании оперативных штабов под руководством глав регионов. Можно предположить, что эти административные нововведения также скажутся на уровне дистанции власти. Безусловно, механизмы имплементации Указа Президента и реакция населения могут значительно различаться в зависимости от географического положения (например, южные области ЦФО) или социально-экономической ситуации (национальные республики). В любом случае, весьма вероятно, что именно представители муниципального уровня управления и через некоторое время регионального уровня управления будут вынуждены массово реагировать на запрос по «переоформлению общественного договора».
Если год назад в основе «общественного договора» на муниципальном уровне в первую очередь были вопросы благоустройства и инфраструктурного развития (в том числе связанные со строительством и ремонтом объектов социальной сферы, но не только с ними), то в настоящее время содержание «договора» может измениться. Отталкиваясь от проведенных интервью, мы можем предположить что основным содержанием станет обеспечение социальной стабильности, по крайней мере в той степени, в которой это возможно с учетом ограниченных ресурсов на уровне муниципалитетов. Позволим себе даже более смелое обобщение, в некотором смысле, соединяющее две предложенные нами гипотезы. В 2021 году, как и в целом в предыдущее десятилетие, образ будущего российских городов (упомянутая нами выше «повестка развития») определялся почти исключительно тенденциями и инновациями, происходящими в Москве и других мегаполисах (например, цифровизация транспортной системы или создание креативных кластеров). Есть достаточно высокая вероятность, что образ будущего российских городов после 2022 года будет во многом зависеть от той «пересборки» общественного договора, первые признаки которой мы обнаружили в ходе недавних интервью.
Есть достаточно высокая вероятность, что образ будущего российских городов после 2022 года будет во многом зависеть от «пересборки» общественного договора.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ И ПЛАНЫ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ
Возвращаясь к центральному тезису и названию статьи, попробуем сделать некоторые промежуточные выводы относительно изменения образа будущего для российских городов. Справедливо ли говорить, что «повестка развития» исчезает и, следовательно, для руководителей муниципалитетов (а возможно вслед за ними и региональных органов власти) вопросы долгосрочного прогнозирования перестают быть актуальными? Разумеется, нет.
С нашей точки зрения, ключевой интеллектуальный вызов текущего момента для любых специалистов по городскому, региональному и пространственному развитию можно разделить на две основные задачи:
1) Типологизация городов (а возможно и регионов) с точки зрения перспектив сохранения экономической устойчивости, в частности, рынка труда. В особенности, это касается малых и средних городов: например, логично предположить, что города, в которых ключевой отраслью является автомобильная промышленность (Всеволожск, Калуга, Набережные Челны, Тольятти) имеют меньшую устойчивость, чем города с оборонной промышленностью (Ижевск, Комсомольск-на-Амуре, Северодвинск, Тула и другие). Приоритеты программ поддержки городов могут корректироваться в зависимости от этого «прогноза устойчивости» и помимо традиционных федеральных стейкхолдеров (Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, Аналитический центр при Правительстве РФ) в этот процесс должны быть вовлечены также Минпромторг, Минтруд и другие.
2) В тесном взаимодействии с главами администраций (которые в свою очередь находятся в непосредственном контакте с населением городов) определение потенциальных параметров «обновленного общественного договора на муниципальном уровне». Должно происходить регулярное определение приоритетных зон внимания в социальной сфере (поддержка нуждающихся, здравоохранение, контроль устойчивости объектов социальной инфраструктуры).
Муниципальный уровень в новой ситуации должен иметь возможность больше непосредственного и весомого влияния на распределение бюджетных потоков, именно в силу лучшего понимания потребностей населения. Нужно признать, что в условиях текущих законодательных и институциональных ограничений в настоящий момент муниципальный уровень не имеет достаточных рычагов и именно это является одним из ключевых элементов «образа будущего российских городов», который потребует пересмотра в ближайшее время.







