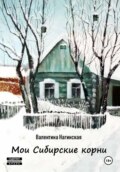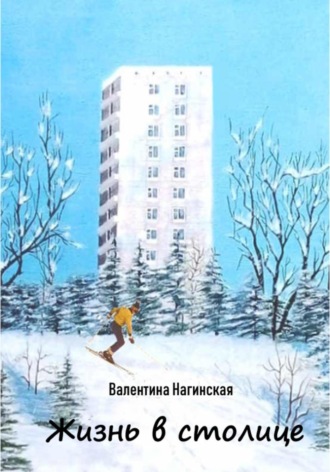
Нагинская Валентина
Жизнь в столице
Спустя 6 лет после смерти папы, в июле 1988 года, после двух месяцев болезни. Она попросила мою сестру Галю пригласить священника для соборования. После принятия этого таинства мама была уверена, что немедленно умрёт, но продолжала жить и очень переживала по этому поводу. Тогда она попросила привезти священника ещё раз, но тот отказывался, ссылаясь на достаточность одного соборования. Галя просила и плакала, и, когда он согласился поехать, выяснилось, что у Гали нет денег на такси. В волнении она оставила кошелёк дома, и священнику пришлось оплатить проезд в троллейбусе не только за себя, но и за Галю.
Не помню, по какой причине я не прибыла в Новосибирск, пока мама ещё была жива, но не могу себе этого простить. Ведь какие бы важные дела у меня ни были, я всё равно полетела на похороны. Предполагаю, что с одной стороны, я боялась увидеть её смерть, а с другой, боялась своим приездом как бы подтвердить её скорую кончину. Тогда я не понимала, что это событие не было для неё ужасным, она была к нему давно готова.
Отпевали маму в храме, который она много лет посещала, очень торжественно, с хором послушников и зажженными свечами. Мы заранее это не предусматривали, так само получилось. Похоронили её рядом с могилой отца. Вечером после похорон и поминок Володя, я и Галя разговаривали, и на нас напал нервный смех. Успокоившись, мы легли спать, а Володя пошёл в комнату мамы. Среди ночи он вбежал к нам с испуганным криком:
– «Валя, Валя!!!».
Что ему приснилось или привиделось, он нам тогда не сказал. Только в последние дни своей жизни признался, что ему было предсказано, что после смерти матери он проживёт недолго И действительно, он прожил только 7 лет. Володя приехал в Москву из Тынды с тяжёлым диагнозом рака желудка на последней стадии. Собственно, он приехал в больницу, у нас он уже не бывал. Врачи мне сказали, что лечение бесполезно и жить ему осталось около 4-х месяцев, так оно и случилось. Народное средство, привезенное его женой из Таджикистана, естественно, не помогло.
Поскольку болезнь была скоротечной, он не успел похудеть и выглядел хорошо, но знал что умирает. Его жена Зоя прямо ему об этом говорила и даже показывала купленный для захоронения костюм. В день смерти я была с ним до самого последнего вздоха, держала его за руку, он её то сжимал, то отпускал, но уже не говорил. Мы с Зоей переворачивала его на бок, стараясь облегчить положение. Наконец, мать Зои сказала, чтобы мы оставили его в покое и тогда он тихо отошёл. На похороны приехала моя сестра Зоя, пришло неожиданно много народа: московские друзья и друзья и коллеги из Тынды.
Глава 9. Новые обязанности
9.1. Смотр дипломных проектов
Сразу после защиты меня назначили ответственной за проведение смотра дипломных проектов, благодаря которому
руководство предполагало сделать хорошую рекламу своему институту. Работа была большая: создание по отбору проектов по факультетам, просмотр, единое графическое представление и оформление выставки, аннотации, отчёт и подготовка его к изданию. Естественно, желающих тратить собственное время на это не было, а я, по мысли проректора по учебной части И.В.Прозорова, должна была «отработать» полученную степень. Он курировал все работы и настаивал, чтобы я сама представляла выставку при её открытии, видимо, желая подчеркнуть мою ведущую роль в этом мероприятии. Но я уклонилась от этой чести, и без того я была на ней самая

1983 г. На выставке проектов. Рядом со мной ректор В.Я.Карелин
заметная не только из-за своих постоянных мельканий туда-сюда и распоряжений, но и из-за белого костюма на почти однородном тёмном фоне.
Весь коллектив, который я имела полномочия подобрать по своему усмотрению, хорошо поработал, и выставка удалась на славу. Было много заметных посетителей, даже из ЦК партии, о нас писала центральная пресса, показывали по местному ТВ, а общесоюзной программе «Время» я давала краткое интервью. Потом мне долго звонили знакомые из разных городов страны с поздравлениями. Отчёт был издан великолепно и все мы получили хорошую премию, которую я сама распределяла.
9.2. Комиссия по Архитектуре Минвуза СССР
После защиты докторской диссертации, когда я ещё работала на кафедре Архитектуры, мне предложили быть председателем комиссии по образованию Минвуза СССР и сформировать её состав. Ещё одна нагрузка, но от такой чести не отказываются. Как принято, в любую комиссию включаются симпатичные председателю люди, и я не была исключением. В данном случае все были специалистами высокого класса, и за короткое время комиссия проверила три строительных вуза: Новосибирский, Ленинградский, Самаркандский. Поездки в другие, уже намеченные города, были прерваны начавшейся Перестройкой.
Работа была поставлена солидно. К нашему приезду институт готовил выставки учебных и научных материалов и работ, мы встречались с ведущими преподавателями, нам показывали институт и его службы и, конечно, возили для осмотра достопримечательностей городов и памятников архитектуры. Наша задача состояла в составлении заключительного протокола о состоянии обучения и уровню научной работы в вузе и рекомендациями по его совершенствованию.
В родном Новосибирском институте я застала ещё преподавателей, которые вели у меня занятия. Не знаю, помнил ли кто из них меня, но все знали, что руководитель делегации выпускница этого вуза. Я вместе со своим коллективом ездила на экскурсии и, хотя я неплохо знала Новосибирск, существенно пополнила свои сведения благодаря лучшему знатоку города С.Н.Баландину. Это был наш первый отчёт Минвузу СССР, и от там очень понравился.
В Ленинградском инженерно-строительном институте (ЛИСИ) тоже прошло всё хорошо, хотя началось не очень удачно. Когда мы приехали в гостиницу института, где нас поселили, комнаты её были предельно захламлены, кругом мусор. Я поговорила с директором гостиницы, мы поехали в институт, а когда вернулись, всё сверкало чистотой. Наша компания много смеялась над моей строгостью, мы вообще слишком много смеялись, а это всегда не к добру. На обратном пути в поезде мы проснулись от крика проводника. Оказалось, он забыл нас разбудить, поезд давно стоит в Москве, а вся наша команда крепко спит. В купе со мной ехалаТатьяна Бирюкова – секретарь комиссии, а в соседнем – профессор МАРХи С.В.Демидов и профессор нашей кафедры К.К.Шевцов. Последний, как бывший военный, собрался мгновенно и выскочил на перрон. Я из тамбура, бросила ему свой саквояж, но поезд уже начал движение, и я побоялась прыгнуть. Втроём мы поехали в далёкое депо. Проводник ругался, а когда поезд остановился на какой-то стрелке, предложил нам выметаться из вагона. Кое-как мы вылезли (у С.В.Демидова был протез ноги) и пошли по рельсам до ближайшей станции. Там удалось взять такси и, когда мы приехали на вокзал, К.К.Шевцов стоял на краю платформы и смотрел вдаль из-под руки, видимо, ожидая увидеть нас на путях.
Поездка в Самарканд была проблематичной по своей содержательной стороне. Нужно было выработать предложение оставлять ли архитектурную специальность в составе строительного факультета. Понятно, что узбеки очень хотели бы её оставить, и потому изо всех сил старались нас принимать как можно лучше. Но я, как руководитель, не хотела оказаться в неудобном положении и решительно отказывалась от всяких банкетов и приёмов, ссылалась на проводимую в то время компанию активной борьбы с алкоголизмом. Узбеки всё-таки нашли способ. После пары дней работы в стенах института, они отправили нас на три дня для составления заключения в загородный дом отдыха. Там для начала мы отметили в своём коллективе недавно прошедшие дни рождения: мой и К.К.Шевцова (у нас они совпадают). Он прихватил с собой из Москвы коньяк, я купила на рынке ведро клубники и мы славно попировали среди зеленых деревьев, цветущих маков и журчащих ручейков.
Наша рекомендация оставить архитектурную специальность была в пользу узбеков, но на неё никак не повлиял их радушный приём и даже то, что домой мы везли в качестве подарков ящики с фруктами. Не знаю, повлияло бы или нет мнение комиссии на принятие решений Минвузом СССР, но наши четко аргументированные рекомендации оказались бесполезными: грянули глобальные изменения, связанные с Перестройкой и распадом страны.
9.3. Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК СССР)
С начала 1885 учебного года я была включена в качестве представителя нашего института в Высшую Аттестационную Комиссию (ВАК) СССР по присуждению учёных степеней и званий. Это была высокая, и надо сказать, неожиданная честь, поскольку другие институты и организации представляло высшее руководство: директора, ректора или проректора. Проработала я в ВАКе семь лет, за это время состав комиссии менялся и, таким образом, я имела возможность познакомиться со многими значительными людьми в нашей области, не только из Москвы, но и из других городов.
В задачу эксперта входило ознакомление с диссертацией, протоколом защиты, отзывами и написание краткой резолюции, завизированной ещё двумя членами комиссии. Как правило, по кандидатским диссертациям они всегда были положительными, хотя мне пришлось однажды вызывать автора работы для разъяснений. По докторским диссертациям разбирательства, как и в моём случае, случались часто. Мне однажды вручили на экспертизу очень слабую работу, её никто не хотел брать, чтобы не писать отрицательную рецензию, потому что автор был внуком знаменитого артиста. Мне тоже не хотелось затевать это обсуждение, но было обидно за тех, кто годами работает и не может пробиться к заветной степени. К тому же Н.Н.Ким, хорошо знавший соискателя, призывал меня к объективности, горячо говорил о падении уровня научных работ и нашей ответственности за это. История закончилась небольшой суматохой в Совете, утверждением претендента и появлением у меня потенциального врага.
На заседаниях комиссий мы дружески общались, в том числе и в хорошем буфете. Нам даже за это платили, кажется, по 3р.50 коп. за час; примерно, 10 руб. за посещение. Я была одной из двух женщин в комиссии, вторая бывала на заседаниях редко, так что я считалась безусловной королевой и все за мной галантно ухаживали. Особенно увлекательными были наши философские беседы с директором института Градостроительства Владимиром Владимировичем Владимировым. Мы часто уходили с ним вместе с заседаний, нам было не только по пути к дому, но и по пути к религии.
9.4. Мои аспиранты
Моей первой аспиранткой была Магда из Каира. Официально она числилась за В.М. Предтеченским, но фактически полностью была под моим руководством. Я начала с ней работать сразу после защиты своей кандидатской. Я очень не хотела её брать, зная, что за многими зарубежными аспирантами приходится делать работу самой. Предлогом было то, что она не знает русский язык, а я – английский. Она пообещала русский выучить и через 3-4 месяца явилась ко мне без переводчика. Я ушам своим не поверила: она говорила, причём почти без акцента! Очень была способная и практичная девушка со стальным характером, но не очень привлекательной внешностью. В Москве она вышла замуж за своего богатого и красивого соотечественника, родила ребёнка, которого поместила в русские ясли, а перед отъездом на родину накупила в Доме моделей на Кузнецком мосту нарядов, говоря, что у нас они продаются просто даром. После защиты она, по слухам, работала вместе с мужем в Арабских Эмиратах. На память о ней у меня сохранился ажурный серебряный браслет с египетскими мотивами.
Следующей аспиранткой была Наталья Чернышева из ЦНИИПромзданий – добросовестная, скрупулёзная, усидчивая, идеально подходящая для секретаря Учёного совета, кем она впоследствии и стала. С Наташей было много хлопот, она была выпускницей МАРХи, хорошо рисовала и упорно пыталась возместить недостаток научных идей графикой. Жаль, что я не сохранила созданный ею специально для меня рисунок «Древо жизни» по мотивам идей моей диссертации.
Два аспиранта из Молдавии – Николай Павлович. Чиобану и Нистор Грозаву были моими любимыми аспирантами. Оба серьёзные, инициативные, умные ребята, всё делали самостоятельно, я только осуществляла общее руководство и направляла в рамки нужных мне задач. После защиты Николай Павлович многие годы руководил кафедрой в Техническом Университете Молдовы и до сих пор параллельно занимается проектированием. Нистор Грозаву избрал политическую карьеру, но продолжает читать лекции. Из всех моих аспирантов они оказались самыми верными и благодарными. После моего отъезда в Израиль отыскали меня по Интернету, написали письма и регулярно поздравляют с памятными датами. А Николай Павлович с женой посетили нас здесь.
Гинтарис Цинялис из Вильнюса – человек практичного склада и западной ментальности: серьёзный, суховатый, чёткий, отстаивающий собственное мнение, не взирая на лица. В этом он был сильно похож на свою мать, в то время как его отец Антониус был приятным и открытым для общения человеком. С его родителями мы познакомились на Куржской косе, где вместе отдыхали. Ещё раз мы были вместе с ними на озере, на базе отдыха проектного института, где работал Антониус. Гинтарис после защиты много работал в странах Запада, в частности, Швейцарии. Двух человек я вела по линии заочной аспирантуры – Вячеслава Тимущука из Питера и Дмитрия Морозова из Алма-Аты. Оба были немного старше меня, и у себя в организациях руководили большими коллективами. С ними не было никаких проблем, оба успешно защитились. Вячеслава Тимощук подарил мне две небольшие акварели известного новгородского художника С.Пустовойтова, они постоянно передо мной. А Дмитрий Морозов убедил меня в том, что я могу читать по старославянски. Будучи в моём домашнем кабинете, он увидел старое Евангелие и спросил, читаю ли я его. Услышав, что я не знаю старославянского, он очень убеждённо сказал:
– «Вы его знаете, попробуйте читать!»
И правда, я сразу начала читать и практически всё оказалось понятным, а непонятное можно было прояснить в параллельном русском тексте. Наверное, мамино чтение, которое было всегда на слуху, этому способствовало.
Был у меня аспирант из Узбекистана, Абилкосим. В отличии от других, которые поступали с намерением работать со мной, он достался мне по распределению между потенциальными научными руководителями кафедры. Брать его ни у меня, ни у других особого желания не было, он и сам не знал, чего хотел, но оказалось, что у нас с ним совпадают дни рождения и это решило дело. Ему повезло ещё один раз, когда после развала СССР прошёл слух, что аспиранты из бывших союзных республик должны будут платить за обучение и за все процедуры, связанные с защитой. Я знала, что он из аула, из очень бедной многодетной семьи, платить ему нечем, к тому же он уже был женат. Я была зам. председателя Совета по присуждению учёных степеней и потому имела дерзость выпустить его на защиту не только раньше окончания срока аспирантуры, но и с диссертацией сомнительной на тот момент ценности и он защитился. О его дальнейшей судьбе мне не известно, но уверена, что он умело использует своё московское обучение. Надеюсь, что из него получился хороший учёный или преподаватель, но я так и не могла понять, есть ли у него для этого другие качества кроме исполнительности. Он во всём со мной соглашался и, даже когда я его провоцировала, он не смущаясь тут же менял своё мнение. От него у меня тоже осталась память: он научил меня варить узбекский плов. Кстати, он недавно нашёл меня через Интернет на сайте и попросил с ним связаться, что, к сожалению, не удалось.
Ещё одна аспирантка до моего ухода с кафедры не закончила свою работу, и я передала её своему коллеге Вячеславу Фёдоровичу Яковлеву, который довёл её до защиты. Светлая ему память.
Среди моих аспирантов не защитился только один Александр Завенович Акопов. Безусловно, талантливый человек, обладающий блестящими способностями, но в области его интересов значительное место занимала работа, связанная с ТВ. В наступившие времена Перестройки у него появилась возможность заняться мультимедиа профессионально. На пути к успеху он не мог терять время даже на защиту, хотя диссертация у него была уже полностью готова. У него хвалило деликатности попросить меня, чтобы я его отпустила с кафедры. Я, понимая ситуацию, не могла его не его отпустить, хотя он и без моего разрешения ушёл бы. Сейчас он теле – и кинопродюсер, телеведущий и президент крупного концерна.
Глава 10. Сотрудничества с зарубежными вузами
10.1. Чешское Высшее Техническое Училище в Праге
В командировку в Чехословакию я ездила в разное время года и на длительное время: от трёх недель до месяца. Дел в этих поездках было немного, основное время я проводила в осмотрах достопримечательностей, посещениях музеев, в магазинах и на улицах. Я целыми днями ходила по разработанным мной маршрутам, подробно изучила Прагу и знала её безусловно, лучшечем Москву. Моим партнёром по научному сотрудничеству был Вацлав Гаек с внешностью чешского короля. Его многочисленные связи позволили мне побывать в местах, где туристы бывают редко. Вацлав всегда был готов что-нибудь поесть и выпить, и знал где это лучше всего сделать. В Пльзене по подвалам знаменитого пивного завода нас водил главный технолог. Там мы пробовали пиво из медных кружек прямо из-под кранов, а продолжили это занятие в его кабинете. Естественно, это было лучшее пиво в моей жизни, хотя повлекло за собой тяжелейшую проблему из-за отсутствия туалетов на обратной дороге в Прагу.
С Вацлавом мы побывали и на не менее знаменитой фабрике чешской бижутерии, где я была одарена всякими украшениями. Были и во вновь отреставрированном театре оперы и балета, где осмотрели все помещения и сцену. Вацлав любил приезжать в Москву, иногда вместе со своей женой Кветой. Мы тоже устраивали им разнообразные развлечения, ресторанные и домашние обеды. Я, приезжая в Прагу, бывала в их прекрасном особняке, построенном Вацлавом по собственному проекту. Однажды для собравшихся гостей делала пельмени, которые Вацлав очень любил у нас есть. Не раз бывала я и на их чудесной даче. Собственно, это была старая усадьба с просторным красивым домом с камином, в необычайно живописной холмистой местности. В1984 году я поехала в Прагу уже со степенью доктора. Этот статус позволил на церемонии выдачи дипломов выпускникам Высшего Технического Училища одеть меня в мантию, но поскольку я тогда ещё не получила звание профессора, то не имела права на цепь, отличавшую их от остальных преподавателей. У нас такой формы ещё не существовало и для меня облачение казалось атрибутом средневековья.
10. 2. Веймарская Высшая Школа Архитектуры и Строительства
В Веймаре я тоже бывала часто и жила подолгу. Благодаря моим коллегам, ознакомилась не только со всеми примечательными местами города, но и со всеми окрестными замками и городками, летними и зимними базами отдыха Тюрингии. Как-то в воскресенье я решила посетить расположенный вблизи Бухенвальд. Сопровождение немецких товарищей я посчитала не корректным, и отправилась одна. Оказалось, что автобусы в этот день не работают, и я пошла пешком. Выйдя за город, увидела совсем недалеко, через поле строения лагеря. Поле показалось мне ровным, и я пошла прямо через него, хотя была в дорогих сапогах на высоких каблуках. Вскоре я обнаружила, что поле всё изрыто и покрыто рвами, как я потом узнала, оно служило танковым полигоном советских войск, которые там дислоцировались. Я попробовала выйти с поля кратчайшим путём, но ещё большее увязла. Тем временем пошёл дождь со снегом. Кое-как я добралась до остановки автобуса рядом с лагерем, села на скамейку, и идти в лагерь уже не было сил. Шёл дождь, до города было несколько километров, но выбора у меня не было, и я пошла пешком по шоссе. Зонта у меня тоже не было, кожаное пальто намокало, тяжелело и теряло форму и, поэтому я сразу же согласилась сесть в машину человека, который предложил меня подвезти. Мы приятно с ним побеседовали,
 В Народном Доме Праги на вручении дипломов. Вацлав справа
В Народном Доме Праги на вручении дипломов. Вацлав справа
и он довёз меня до дома Б.Грюнвальда. Хозяева тут же затопили печь в маленькой комнате, уложили меня на диван и я немедленно и надолго уснула.
Мой второй коллега профессор Герхард Баумгертель стал к тому времени мэром города Веймара и принимал и меня, и нас с Виталием вместе, на высшем уровне. Ужинали мы, не иначе, как в лучших ресторанах «Элефант» или «Русский двор». С ним мы совершили двухдневную поездку по осенней Тюрингии. Ночевали в г.Лейнефельде, где директор текстильной фабрики пригласил нас к себе домой на вечер. Меня удивило, что перед визитом мы зашли в ресторан и поужинали. К двери дома директора подошли за пару минут до назначенного срока, подождали эти минуты и только тогда позвонили. Директор с женой оказались очень весёлыми и простыми людьми, у них был роскошный винный подвал, но еды действительно не было, только какие-то орешки и хрустелки. Потом, когда уже много выпили, начали жарить сосиски, звонить Виталию в Москву и приглашать его приехать.

С проф. Баумгертелем
Памятная поездка с Герхардом у нас состоялась во Владимир и Суздаль. Институтские машины были в этот день все заняты и мне дали для экскурсии большой автобус. Я приглашала всех желающих с кафедры, но набралось всего человек 5. Дело было поздней осенью, погода холодная, сырая, с гололёдом. Несмотря на это, ранним утром мы тронулись в путь в надежде, что днём ситуация улучшится. Путь предстоял долгий, более 200 км и, когда мы проехали половину, пошёл мокрый снег, и дорога превратилась в настоящий каток. Разумно было бы повернуть назад, но шофёр не настаивал и мы продолжали движение.
Соборы Владимира никого не оставили равнодушными. А когда в свете угасающего дня возникли, как мираж в белой пустыне, церкви Суздаля все так и ахнули. Пока мы обедали в ресторане с шампанским по случаю дня рождения Герхарда, стало почти темно. Возвращались мы по всё ухудшающейся дороге, и я после того как развезла всех по домам, добралась до дома в третьем часу ночи. Виталий и родные моих спутников уже обзвонили все милиции, и находились в страшной тревоге. Но более всего мне до сих пор жалко безропотного водителя, на которого пала вся тяжесть поездки.
В ГДР я совершенно неожиданно обнаружила, что моя кандидатская разработка успешно применяется в проектном институте г. Ростока. Я свою программу им не передавала, но не возражала против её использования. Наоборот, было приятно, что мой труд и труд моих аспирантов кому-то пригодился.
После того, как я перешла на кафедру САПР, работа с бывшим Восточным сектором Германии продолжалась, хотя и не так интенсивно, как раньше. В конце 1995 года я поехала туда вместе с А.А.Гусаковым. Его друг и мой давний знакомый Питер должен был нас встретить на вокзале, но его там не оказалось, и домашний телефон не отвечал. Стояла зима, вокзал в Веймаре не приспособлен для ожидания, там холодно, как на улице, и мы мгновенно замёрзли. Я оставила Александра Антоновича на вокзале и пошла в институт, чтобы найти дежурного и как-то устроиться на ночлег. К моему счастью, в институте было какое-то происшествие, и я встретила у главного здания ректора, который меня знал. Нашли Питера, и он забрал нас на ночь к себе. Питера я хорошо знала, ни раз принимала его и бывала у них в гостях. Их приёмы славились однообразностью и минимализмом ассортимента угощения: всегда и только горячие бутерброды с сыром. В тот вечер они достались и нам.
Утром нас поселили на частные квартиры. С ней Александру Антоновичу не повезло: завтраки там были чрезвычайно скудными, в то время как у моей хозяйки просто роскошными. Но главное, его обидело поведение Питера. Он не только неоднократно жил дома у Александра Антоновича, но тот устраивал ему поездки в разные места, в том числе, в Узбекистан Кроме неблагодарности, Питер ещё позволял себе небрежное отношение к бывшему другу, обращался исключительно ко мне, а ему говорил:
– «Пора бы тебе изучить хоть какой-нибудь язык».
После падения Берлинской стены малозаметные прежде Питер и его жена стали проявлять большую активность и стали членами какого-то элитного клуба. На клубную Рождественскую вечеринку в ресторане «Русский двор» приглашены были и мы. Там проводили очень забавную игру с розыгрышем подарков. Моему коллеге досталась аляповатая перечница в виде дамы с громадным бюстом, а мне удалось выиграть главный приз – хрустальный колокольчик, которым председатель клуба открывал заседания. Я оставила его нашим друзьям Кернхенам.
В последние годы перед падением Берлинской стены Бернд был директором института Градостроительства в Берлине, где я тоже у него бывала. А после он, как функционер и убеждённый коммунист, был отстранён от всех должностей. К материальным благам Бернд относился спокойно, жили они скромно, много помогали людям. Помню, в Москве, возвращаясь из Вьетнама, он пришёл к нам в одной рубашке. Всё что у него было, отдал бедным коллегам. Крушение своих идеалов он перенёс тяжело и трагически ушёл из жизни. Светлый и честный был человек. Его жену Марлис уволили с работы, выселили из дома, и ей пришлось снимать комнату. В последний наш приезд в Веймар в 2000 году мы нашли её телефон, но лично с ней не удалось поговорить. Мы поняли, что она не хочет встречаться с людьми, знающими её в лучшие времена. Их бывший дом теперь занимает созданный Берндом музей, который мы хотели посетить, но, к сожалению, он был в тот день закрыт.
Сотрудничество с этой школой развивалось по нескольким направлениям. Мы создали ряд совместных сборников научный статей, обменивались результатами исследований, обе стороны принимали студентов и аспирантов для включенного обучения.
Выше я уже упоминала и о неформальных связях между коллегами из дружественных вузов. В 2019 году исполнилось 50 лет совместного сотрудничества, и это дата торжественно отмечалась в Московском Государственном университете.
10.3. Технический Университет Западного Берлина
В 1988 году группа из трёх профессоров с разных кафедр института была направлена в Западный Берлин для определения возможности сотрудничества с Техническим Университетом. В составе группы, кроме мен, были профессора Т.Г.Маклакова и Д.С. Самойлов. Этот город в силу его статуса считался тогда почти враждебным и на наших совещаниях в Берлине частенько присутствовал очень вежливый и внимательный сотрудник посольства. Поездка для меня окончилась успешно, мне удалось установила контакты с зав.кафедрой проф. Эберхардом Кернхеном. В дальнейшем с ним и сотрудниками его кафедры мы весьма плодотворно работала многие годы вплоть до моего отъезда в Израиль.
Поездки в Западный Берлин и ответные Эберхарда в Москву стали ежегодными. Мы организовали также обмен студенческими группами, совместные проекты, в частности, варианты реконструкции ул.Пречистенка, застройки Красной площади и т. п. Естественно, все проекты выполнялись с помощью компьютеров.
Обменявшись первыми визитами с Эберхардом К., мы познакомились с семьями друг друга и подружились. Жена Эберхарда Вальтраут работала на
кафедре своего мужа и иногда приезжала с ним в Москву. В своих командировках в Берлин я стала жить у них и в Берлинской квартире, и в собственном доме в Эрфурте. Они жили у нас дома, и их коллеги, размещавшиеся в гостинице, расспрашивали в подробностях: что они у нас ели на завтрак, обед и ужин. Как правило, им наша еда очень нравилась и ели они с отменным аппетитом. Только однажды Вальтраут отказалась от сардельки, сказав, что такие они покупают только для собаки. Между тем, у нас это был весьма дефицитный продукт, и я радовалась, что могу накормить избалованных гостей совсем по-немецки: с пивом, горчицей и тушёной капустой.
С семьёй Кернхен мы с Виталием много ездили по Германии, обычно из их дома в Ерфурте. Отец Эберхарда был частным застройщиком, и дом построен на большую семью: 2 этажа с мансардой, на прекрасной территории, примыкающей непосредственно к реке и городскому парку. Внутри двора семье принадлежит ещё один, оставшийся от далёких времён дом в нарядном традиционном фахверковом стиле. До воссоединения Германии Ерфурт находился на территории ГДР, их дом был отчуждён в пользу государства и передан другим владельцам. После падения Берлинской стены всё возвратили Эберхарду, а незаконные владельцы остались, превратившись в съёмщиков части дома. В старом домике никто не жил и хозяева предлагали нам занимать его на лето, если мы того пожелаем.

С Вальтраут (я слева)
В нашем сотрудничестве участвовал ещё один интересный человек – проф. Вагнер. Под его руководством была группа разработчиков всевозможных устройств, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Позже я узнала, что его дочь страдает болезнью Дауна, что, наверное, повлияло на характер его исследований. Он за долгие годы работы в Университете никогда не приглашал к себе домой сотрудников. Моё появление изменило эту ситуацию, и я вместе с Эберхардом, получила приглашение на ужин. Поскольку у меня была племянница с этой болезнью, умершая в двухлетнем возрасте, я с интересом наблюдала за взрослой дочерью хозяев дома. Она сидела за общим столом и вела себя почти нормально. Жена профессора Вагнера посвятила себя её воспитанию, обучала дома и в разных спецучреждениях, где для больных детей создавались все условия для развития. Их даже вывозили за границу.
Вальтраут познакомила нас со своей подругой Анной – Дорой, одинокой и богатой женщиной. Она много лет болела раком, но держалась стойко, не бросала работу учительницы биологии, что совсем ей было не нужно с материальной точки зрения. С Анной- Дорой мы много ездили вместе, я не раз была в её квартирах в Берлине и на её чудесной даче. Она была приятной в общении, любила поесть и всегда приглашала в рестораны. На память от неё осталась подаренная мне шёлковая блузка из дорогого магазина.

1991 г. Виталий, проф. Вагнер, я, проф. Кернхен
В Москве мы тоже старались показать гостям достояние нашей столицы и страны с выгодной стороны. Возили их по памятникам архитектуры, в Сергиев Посад, Новый Иерусалим, Архангельское и прочие исторические места. Как-то мы поехали в Новый Иерусалим глубокой осенью, было очень холодно и слякотно. Воскресенский собор был закрыт для посещения и мы, чтобы его осмотреть, присоединились к группе специалистов-реставраторов. Их беседа была для нас излишне подробной и затянулась на долгое время. Мало того, что мы промёрзли до костей и не могли выйти, ещё и проф. Вагнер остался на улице за закрытой дверью. Потом мы его нашли в поисках нас мечущегося по территории. Но немцы, по крайней мере те, с которыми я знакома, отличаются тем, что никогда не жалуются и все трудности переносят стойко.