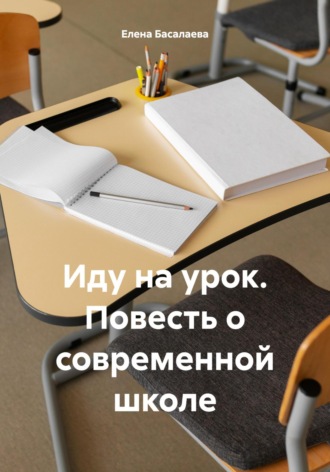
Елена Михайловна Басалаева
Иду на урок. Повесть о современной школе
Как я стала городской
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет
Римский философ Боэций
Глава 1. КАК Я СТАЛА ГОРОДСКОЙ
1
Мама очень хотела сделать меня логопедом. Прямо загорелась этим желанием, когда Сергеевна, её старая знакомая из Стрелки, стала рассказывать про свою дочку: и работает-то она до обеда, и учеников мало, и зарплата чуть ли не директорская. Отчим, когда услышал, тоже стал поддакивать, хотя раньше советовал всё-таки лучше податься на врача:
– У нас терапевт получает полтинник с лишним, так не вижу, что урабатывается. Ну, а логопедом, поди ещё проще: сиди и детям язык показывай. Если у нас в садике или школе место есть, то всегда можно сюда вернуться.
– Или в городе пускай остаётся. Закрепится там, замуж выйдет… – у мамы были немного другие мечты. – А профессия хорошая, как раз для таких терпеливых, как Настька.
Я слушала их, как обычно, не споря: всё равно не переубедишь. Но в душе понимала, что они сильно переоценивают мою терпеливость. Да, я могла часами ковыряться на грядках, перебирать вёдра смородины, без напоминаний убирала в стайке за курами и кроликами, – но это потому, что понимала: Маринка с Пашей ещё мелкие, бабушка старая, и, кроме меня, больше некому помогать. За уроками я всегда сидела долго, и мама думала, что я тщательно делаю всю домашку, но на самом деле я расправлялась с ней за полчаса, а потом просто читала то, что было интересно.
А интересны мне были биология и литература. Биологичка, которую мы с одноклассниками звали просто Зоя, и русичка Борисовна одно время даже ревновали меня друг к другу. Я ходила и в эколого-краеведческий кружок, и в литературную студию. В кружке мы и составляли гербарий, и смотрели в микроскоп на всяких инфузорий, и делали для жителей Новоангарска плакаты с призывом беречь природу (хотя мусор с берегов Ангары всё равно приходилось убирать нам самим). Но меня в биологии больше всего волновал фундаментальный вопрос: откуда всё появилось? Когда нам в десятом классе рассказали про первичный бульон, ещё долго, зачерпывая ложку супа, я представляла, как в древнем океане длинные молекулы белков сворачивались в шарики, притягивали к себе воду и жиры, и становились протоорганизмами. А потом Зоя призналась, что опаринская теория бульона уже устарела, и современные учёные думают, что жизнь зародилась не в первобытном супе, а в грязевых котлах вулканов. А, может быть, и где-то ещё.
Эта неопределённость почему-то сильно расстроила меня. Оказалось, что на свой главный вопрос биология не даёт ответа. Литература была уверенней, и в одиннадцатом классе я окончательно прилепилась к Борисовне. Она не сомневалась в том, что Достоевский дал ответ – даже несколько ответов – на то, кто такой человек и зачем он живёт. Учительница убеждала меня, что я обязательно полюблю «Братьев Карамазовых», но настоятельно советовала не читать их раньше, чем мне исполнится двадцать лет.
– А Бунина ты вообще поймёшь не раньше пятидесяти, – грустно улыбалась Борисовна, покачивая головой.
Я сильно привязалась к ней за последний год школы. С виду она была обыкновенной поселковой тёткой, как моя мама или наши соседки: держала кур, гусей и кроликов, раз в месяц ходила в парикмахерскую краситься в неизменный тёмно-рыжий цвет, в выходные смотрела слезливые фильмы по каналу «Россия-1». Муж у неё работал в ГОКе, как почти все мужики из нашего Новоангарска, умеренно выпивал и ловил рыбу сетями. Но, когда Борисовна говорила о литературе, она преображалась. Она становилась существом из другого мира. Хотя, как я понимаю, Борисовна отчасти им и являлась. Когда она была молодой, они с учениками ходили в палаточные походы, читали у костра стихи и пели песни под гитару. Сейчас всё это казалось странным. Слушать и смотреть что хочешь теперь можно было по интернету (кабель у нас проложили пару лет назад), палаток и ночёвок в полевых условиях мои одноклассники вообще не понимали. А я немного завидовала старым ученикам Борисовны и думала о том, что, наверное, родилась не в своё время.
– Людмила Борисовна, – сказала я ей на выпускном ближе к утру, когда музыка стихла и все стали потихоньку расходиться, – я хочу стать как вы, учителем.
– Не дай Бог, – устало выдохнула она.
А через несколько секунд возразила сама себе:
– Хотя у тебя получится…
В городе я подала документы на два факультета пединститута: на филологию и, как уговаривали мать с отчимом, на логопеда-олигофренопедагога. В приёмной, где брали логопедов, сидели парень с девушкой, оба в шортах и футболке. Я очень удивилась, что они так одеваются в стенах университета и, наверное, посмотрела на них с осуждением, потому что эти принимающие сказали:
– Вы уверены, что хотите к нам?
– Совсем нет, – ответила я.
– Да, подумайте ещё, потому что к нам поступить легко, а учиться трудно.
Через несколько дней я забрала оттуда документы. На филфаке устный экзамен прошёл на ура. Я уже была уверена, что поступлю, и спокойно ждала, когда вывесят списки, как вдруг в город неожиданно приехала мама. Идея моего поступления на филфак пединститута вдруг показалась ей ужасной:
– Ты знаешь, что про пединститут люди-то говорят? – кричала она, уже как-то упустив из виду, что логопедический факультет находится в этих же стенах. – Да его в народе зовут – ликбез! Говорят, что туда только те поступают, кто больше никуда не смог пройти! А знаешь, сколько ты после него будешь получать?
Я оставалась невозмутима: с самого детства привыкла к таким взбрыкам от мамы. Вечно наслушается кого-то и впадает в истерику.
– Не знаю, – ответила я. – А тебе-то кто сказал?
Мама растерялась:
– Как кто? Семёновы, у них же дочка в педе учится… Но хотя бы на математике… Женщины тут около общежития разные…
Я решила следовать своей обычной тактике: согласиться, а потом сделать всё по-своему. Подавая документы в госуниверситет (тоже, конечно, на филфак), я спросила у приёмной комиссии главное:
– Скажите, пожалуйста, а после вашего факультета я смогу работать учителем?
Молодая женщина в строгом костюме уверенно ответила мне:
– С руками оторвут!
– Тогда зачисляйте меня, – я протянула ей результаты ЕГЭ.
2
Списки поступивших вывесили первого августа. Когда я увидела свою фамилию – Инякина – среди тех, кто прошёл на бюджет, то радости почему-то не было. Было простое чувство: совершается то, что должно совершаться. А ещё усталость от шумного, суматошного города, и желание поскорее вернуться домой.
Мама была не слишком довольна моим поступлением, но перед людьми, как положено, хвасталась:
– Настька поступила на вышку. В городе, наверное, останется. Сможет статьи в интернет писать, отзывы на фильмы оставлять, или на радио работать. Или даже в телевизор попадёт, журналисткой будет!
Отчим (я всегда звала его дядя Лёша) принял новость о том, что я поступила на другой факультет, куда спокойнее. Главное, поступила – и хорошо. Сам он несколько лет работал в ГОКе фрезеровщиком четвёртого разряда, и считал, что главное – иметь стабильную работу с нормальным доходом и официальным трудоустройством, чтобы уверенно смотреть в завтрашний день. И спорить с ним, в общем-то, было не о чем. С тех пор, как мама сошлась с дядей Лёшей, мы стали жить намного лучше: сделали дома ремонт, купили моторку и трактор, обзавелись мебелью и даже за одеждой стали ездить не в свой магазин, а в Енисейск. На людях мать всегда хвалила мужа и говорила, что цены ему нет. Да его и вправду было не в чем упрекнуть: не пьёт, работает, заботится о ней – чего ещё надо? Честно говоря, объективно он был лучше моего родного папы, которого убили в пьяной драке, когда мне шёл десятый год, а Маринке – шестой. Ко мне и сестре дядя Лёша относился хорошо, и постепенно я начала к нему тянуться. Но тут как раз родился Киря, долгожданный первый сын у отчима, да и у мамы, и вся любовь, как полагается, досталась ему, младшему.
Все, кто вместе со мной окончил одиннадцатый класс, поступили – одни в Енисейский колледж, другие в красноярские техникумы и вузы. Самые амбициозные пошли в аэрокосмическую академию на заочку или на платку, потому что (по их словам) проскочить на бюджет в год нашего выпуска было практически нереально. Я поздравила с поступлением всех, кто тоже приехал домой на остаток лета и, честно говоря, хотела, чтобы кто-нибудь из ребят искренне порадовался за меня. Но друзей как таковых в классе у меня никогда не было, поэтому пришлось услышать только стандартные вежливые слова. Я училась хорошо, меня уважали, просили списать и не задирали, но всю дорогу считали слегка не от мира сего.
Конечно, я заглянула в школу к своим учителям. Борисовна и Зоя поздравляли меня, но даже в их приветливых словах мне слышалось какое-то недоверие, будто они сомневались, что я в самом деле стану их коллегой. Школа была пустая, гулкая, остро пахла краской. Пройдя по пустым коридорам, я впервые со всей отчётливостью поняла, что больше сюда не вернусь, и от этой мысли захотелось плакать.
Легко мне было только с детьми. Маринке исполнилось уже тринадцать, она корчила из себя взрослую, а Кириллу было только шесть, и он ещё не вполне понимал, что скоро я уеду из дома на долгих четыре года. Погода стояла жаркая, я бегала на речку вместе с ним и другими ребятишками, брызгалась с ними, купалась, плавала в лодке до острова. Ходила с ними за лесной смородиной, за прячущимися в высокой крапиве шампиньонами.
– Одних шпиёнов принесла. Что с ими делать-то мне? – беззлобно проворчала на меня бабушка, мама моего покойного родного отца, когда я в конце августа зашла её проведать.
– Других грибов не было, баб, – развела я руками, улыбаясь, и удобно устроилась с ногами в старое широкое кресло.
Я не сразу заметила, что бабушка не одна: из летней кухни вышла её соседка и приятельница, маленькая, сухопарая татарка – мама уважительно обращалась к ней «тётя Соня», а остальные обычно звали «Соня Петровичева» по отчеству её уже покойного мужа.
Тётя Соня спросила меня, куда я поступила учиться.
– На филфак, – ответила я, сомневаясь, что она знает такое слово.
Бабушкина подруга и вправду на секунду задумалась, а потом спросила:
– Это чё, философия, что ли?..
Я не стала пускаться в тонкости и попросту объяснила:
– Учителем буду.
– А-а, – задумчиво кивнула тётя Соня. – Знаешь, учитель – это должен быть человек святой.
– Как это?! – поразилась я.
– Ну как… Он всё же остальным не ровня. Вот мы можем где-то обмануть, и матюгнёмся, и возьмём, что плохо лежит. Так? Так. Простому человеку это всё можно. А учителю… Учителю нельзя.
– Почему это? – взялась спорить моя бабушка.
Тётя Соня сердито поглядела на неё:
– Она ещё спрашивает! Разве не так раньше было? К учителю все со своими бедами ходили. Помнишь, Макаровы-то у нас работали? И выслушают всех, и бумажку помогут справить, и с ребятами занимались как хорошо.. Всем были пример.
– А я так смогу? – мне ужасно захотелось, чтобы она ответила «да».
Но тётя Соня вернула своему лицу обычное отстранённое выражение.
– Да я откуда знаю, – сказала она.
– Да ладно, Сонь! – махнула рукой моя бабушка. Пример, святой… Наболтала тут. Это уже давно всё не так. Работа как работа, да и всё.
– Ну, щас не так, – примирительно согласилась тётя Соня. – А в молодости нашей, не спорь, было так. Когда в Горевке только начали руду добывать…
– Ну, тогда, Сонь, время другое было…
Я снова физически ощутила боль от того, что мне угораздило родиться в какое-то «не то», унылое, безгеройное время, и теперь я обречена на бессмысленную, отупляющую жизнь, которая ещё неизвестно, где хуже, – тут, в родном посёлке, или в чужом многолюдном Красноярске.
Первого сентября две тысячи четырнадцатого года я плакала, сама не зная отчего. Может, потому, что пришлось уехать из привычного, знакомого Новоангарска. Или потому, что в свои семнадцать всё ещё не вполне понимала, кем мне быть и чему посвятить жизнь. А, может, просто потому, что напрочь забыла номер аудитории, в которой должны были поздравлять нас, первокурсников филфака, и провела полтора часа в обществе будущих химиков.
Но потом всё пошло так славно, что я и не могла себе представить. Сказать, что учиться мне понравилось – значит не сказать ничего. Я зачитывалась пропповской «Морфологией волшебной сказки», хохотала над «Кубышкой» Плавта и от души жалела Софоклову Антигону, скрупулёзно водила карандашом по карте в поисках границ диалектов, восхищалась гениями Гумбольдта и Сепира, которые считали, что люди, говорящие на разных языках, и мыслят по-разному.
Я читала запойно: пока было тепло – на лавочке в парке, с наступлением холодов – в торговом центре. В общаге я старалась проводить поменьше времени, хотя соседка попалась довольно спокойная, а в бытовом плане вообще не оказалось никаких проблем – общежитие было практически новое, светлое, красивое. Мама, приехав навестить меня, первым делом обеспокоилась, есть ли на общей кухне хорошая плита. Плита имелась даже лучше, чем у нас дома, был и холодильник, доставшийся от прежних поколений студентов. Но я готовила редко и вообще старалась свести бытовые заботы к минимуму. Мне с лихвой хватало их дома – два летних месяца нужно было тяпать, поливать, полоть, обрезать ветки, собирать ягоду, пока до неё не добрались дрозды, помогать маме солить огурцы и закатывать салаты. Да ещё заниматься с Кириллом, который должен был пойти в первый класс, но ещё не умел читать.
Буквы в Кириной голове путались, играли в догонялки. Слово из двух слогов он ещё мог прочитать без запинки, а что-нибудь типа «ребёнок» мог произнести и как «ренёбок», и как «берёнок». «Палка» у него могла превратиться в «плаку», работа – в «рабту». Я поговорила насчёт него с Борисовной. Она сказала, что Кириллу всегда будет трудно читать, но дальше всё-таки пойдёт лучше.
– Как тебе, нравится учёба? – спросила она.
– Да, – ответила я совершенно искренне.
– А тренироваться на живых детях вы когда будете? – вмешался Киря. – Или сперва на роботах?
Я засмеялась:
– На каких ещё роботах?
Братик был серьёзен:
– Ну, сначала, наверное, нельзя к живым детям подпускать, когда пойдёте на урок. Надо на андроидах поучиться.
Людмила Борисовна улыбнулась и сказала Кириллу, что, слава богу, и учеников, и учителей никогда не заменят механизмы. Она обняла меня и пригласила на четвёртом курсе обязательно устраиваться на практику в родную школу, а не в какую-нибудь городскую.
3
Я же ещё не знала, захочу ли вернуться домой, и даже не была уверена в том, что действительно стану учителем. Девчонки с нашего курса в школу вообще не стремились. На первых курсах они подрабатывали в кафе официантками, разносили рекламные листовки, торговали косметикой «Эйвон». Потом стали писать обзоры и отзывы на книжки и фильмы, отправляли свои заметки в газеты, сочиняли рекламные тексты. В рекламе однажды попробовала себя и я, когда однокурсница Алинка однажды без всяких предисловий сказала:
– Слушай, Настя, а почему ты не займёшься копирайтингом? У тебя же хороший слог.
Она выдала мне ТЗ – технические задания, по которым нужно было составить рекламный текст про какой-то магазин чешского фарфора. Я посмотрела фото на сайте и написала как можно красивее. В том духе, что без этого фарфора у вас и дом не дом. Сама я отнеслась к своим сочинениям очень иронично, зато Алинке, к моему огромному удивлению, они понравились. Она озадачила меня написанием рекламных статей о ремонте холодильников и телевизоров.
– Так это для меня тёмный лес, – возразила я. – Если только с отцом посоветоваться…
– Ну что ты, не понимаешь, как надо делать, – со снисходительной улыбкой ответила Алинка. – Берёшь тексты из инета, рерайтишь их – слова местами переставляешь, прогоняешь через «Антиплагиат», и готово. Цену нормальную платят.
Платили и правда неплохо – сто рублей за тысячу знаков. Но вскоре я бросила это дело, с ужасом представив, что вот такой ерундой мне придётся заниматься всю жизнь. Меня тянуло совсем не к этому.
В книжках по лингвистике я читала про великие открытия, в русских летописях и романах Гюго – про великие события, в трагедиях древних греков – про великие характеры. А в жизни великого и героического было удручающе мало, – всё только мелкая и скучная обыденщина, поиски акций в магазинах, перемыванье костей соседям по общаге, мамины жалобы по телефону на сердце, погоду и цены.
Я хотела подвига, хотела посвятить себя чему-то великому, отдать себя всю людям, как горьковский Данко из рассказа «Старуха Изергиль». Вслух, естественно, об этом никому не говорила. Только надеялась в глубине души, что однажды встречу такого человека – хотя бы одного, с которым смогу без страха поделиться своими переживаниями, которые копились во мне, начиная уж не знаю со скольки лет. Конечно, я завела дружбу (скорее, приятельство) с несколькими девчонками, ходила с ними в бассейн, в кино, гулять в парк или на Театральную площадь. Одна из них как-то пригласила меня поиграть в команде «Своей игры», где четверо участников – все, кроме моей подружки, были парни из военно-инженерного института. Один из них мне очень понравился, и казалось, что это взаимно, однако после нескольких прогулок по набережной он неожиданно прислал мне такую эсэмэску:
– Настя, ты очень хорошая девушка, но давай останемся друзьями. Ты просто слишком умная для меня, тебе нужен кто-то другой.
На несколько секунд я впала в ступор, а потом начала истерически смеяться. Пережить подобное в одиночку было сложно, и я излила душу другой подруге – тусовщице Катьке, которая уж точно знала толк в парнях. Катька, которой я не раз помогала с контрольными и курсаками, посочувствовала мне от всей души и дала совет:
– Ты правда слишком умно говоришь. Парни этого не любят. Я уже давно знаю – они любят, когда их слушают. А ты, наверное, начала этому своему рассказывать что-нибудь про Циолковского или Блока…
– Как ты поняла? – моему удивлению не было предела.
Я в самом деле однажды стала говорить этому парню про то, как однажды Циолковский увидел выписанное на звёздном небе слово «Рай», и загорелся мечтой полететь в космос.
– Догадалась… – вздохнула Катька. – Послушай меня: в другой раз познакомишься – поменьше говори. Лучше вообще молчи. Улыбайся такая и кивай. Короче, соглашайся с ним. Это они очень, очень любят, – Катька сладостно-мечтательно улыбнулась пухлыми губами.
Катюхе нельзя было не поверить, но соглашаться с её правдой мне как-то не хотелось. Я снова с головой ушла в учёбу. К концу третьего курса моя память напоминала старую флешку, где можно было отыскать что угодно, хотя приходилось порой основательно порыться в папках. Я не была идеальной студенткой – наоборот, иногда забывала дома тетради, опаздывала на семинары, не делала вовремя задания – но на экзаменах и зачётах всегда откупалась знаниями и сдавала всё на пятёрки. Если какой-нибудь реферат казался мне скучным, я писала его спустя рукава, едва ли не методом «копировать – вставить». Преподаватели слегка ругали меня, заставляли переделывать, но всегда относились ко мне благосклонно. Честно говоря, я была у них одной из любимых учениц. Да и они казались мне очень приятными людьми, особенно трое – завкафедрой языкознания Алексей Петрович и преподаватели русской литературы Сагунова и Кириллов.
Я любила бродить по городу, кататься на автобусах в любых направлениях и мечтать, мечтать, мечтать. Я воображала себя то радисткой в пору Великой Отечественной войны, то женой декабриста, которая следует за мужем из роскошного Петербурга до самой Читы, несмотря на холод, лишения и бесчестья.
Однажды Владимир Васильевич Кириллов разбирал с нами малоизвестный обычным людям тургеневский роман «Новь». Василич (так его звали все студенты) зачитал отрывок, где «постепеновец» Соломин наставлял главную героиню – революционерку из народников Марианну. Соломин говорил, что настоящая жертва – не в том, чтобы не помня себя, броситься под колёса с криками «Ура! За республику!». Он предлагал Марианне другой путь:
«А вот вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите; и трудно вам это будет, потому что не легко понимает Лукерья и вас чуждается, да еще воображает, что ей совсем не нужно то, чему вы ее учить собираетесь; а недели через две или три вы с другой Лукерьей помучаетесь; а пока – ребеночка ее помоете или азбуку ему покажете, или больному лекарство дадите …По-моему, шелудивому мальчику волосы расчесать – жертва, и большая жертва, на которую немногие способны».


