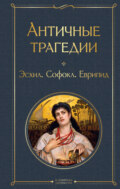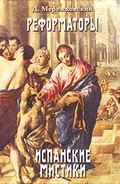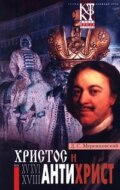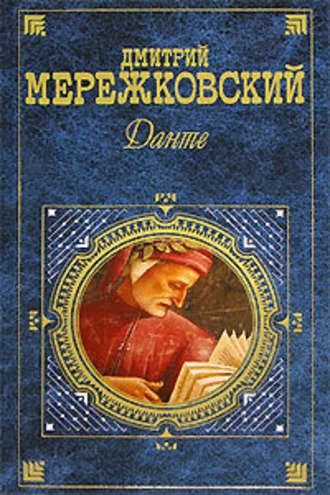
Дмитрий Мережковский
Данте
Х
ТЕМНЫЕ ЛУЧИ
Огненная река обтекает предпоследний уступ Чистилищной Горы, там, где начинается лестница, ведущая в Земной Рай. Так же, как все, повинные в блудном грехе, должен пройти и Данте сквозь этот очистительный огонь. Но слыша, как Ангел, стоящий над рекой, поет:
Блаженны чистые сердцем!
Здесь нет иных путей, как через пламя,
Войдите же в него, святые души,
Не будьте глухи к песне за рекой, —
он ужасается:
...И сделавшись таким,
Как тот, кого уже кладут в могилу,
Я обратился к доброму вождю,
И он сказал мне: «Сын мой, помни,
Здесь может быть страданье, но не смерть.
Не бойся же, войди в огонь скорее!»
Но я стоял, недвижимый от страха.
Увидев то и сам смутясь, Виргилий
Сказал мне так: «О, сын мой, видишь,
Между тобой и Беатриче – только эта
стена огня...»
И, головою покачав, прибавил:
«Ты все еще стоишь?» и улыбнулся мне,
Как яблоком манимому ребенку,
И впереди меня вошел в огонь...
За ним вошел и я, но был бы рад
В расплавленное броситься стекло,
Чтоб освежиться: так был жар безмерен.
Но, идучи в огне, со мною рядом, —
Чтоб укрепить меня, отец мой нежный
Мне говорил о Беатриче: «Вот,
Уже глаза, ее глаза я вижу!»[1]
Кажется, сквозь тот же очистительный огонь проходит Данте, и на земле, в эти именно, последние дни своей «презренной жизни».
«Против этого врага моего (Духа искушающего: „Бросься вниз!“ или Демона Превратности, как мог бы назвать его другой близнец Данте, тоже сходивший в ад, Эдгар Поэ) – против этого врага поднялось однажды во мне, в девятом часу дня, могучее видение: Беатриче... в одежде того же цвета крови... в том же юном возрасте, как в первый раз, когда я увидел ее (девятилетним отроком)... И, вспомнив прошлые дни, сердце мое мучительно раскаялось в тех низких желаниях, которым дало собой овладеть... и вновь обратились все мои мысли к Беатриче единственной»[2].
Было ему и другое «чудесное видение», mirabile visione, о котором он ничего не говорит, может быть, потому, что оно не выразимо словами, или слишком свято для него и страшно – «чудесно». – «В нем увидел я то, что мне внушает не говорить больше об этой Благословенной, пока я не буду в силах сказать о Ней достойно. К этому я и стремлюсь, насколько могу, и это воистину знает Она; так что если угодно будет Тому, в Ком все живет, даровать мне еще несколько лет жизни, – я надеюсь сказать о Ней то, что никогда, ни о какой женщине не было сказано. Да будет же угодно Царю всякой милости. Sire de la cortesia, чтобы увидела душа моя славу госпожи своей, Беатриче Благословенной, созерцающей лицо Благословенного во веки веков»[3].
Так кончается «Новая жизнь» – первая половина жизни Данте – в той серединной точке, о которой он скажет:
Посередине жизненной дороги[4], —
и начинается вторая половина – «Комедия». Точное разделение этих двух половин Данте сам отмечает одним и тем же словом «начинается», повторяемым в заглавии двух книг, или двух частей одной Книги Жизни: «incipit Vita Nova – incipit Commedia»; «Новая Жизнь начинается», – «начинается Комедия».
Данте пишет «Новую жизнь», вероятно, в 1295 году, когда ему исполнилось тридцать лет[5]. В первой половине жизни, – от девяти лет до тридцати, от первого явления живой Беатриче до последнего, или предпоследнего, земного видения умершей, – Данте любит ее, земную, как небесную; живую, как мертвую. А во второй половине жизни, от тридцати лет до смерти, от последнего земного видения умершей до первого небесного явления Бессмертной, – он любит ее, мертвую, как живую.
Может ли живой чувственно любить мертвую? Этот вопрос людям наших дней, и верующим и неверующим одинаково, кажется умственно нелепым или нравственно чудовищным, получающим ответ только в таких клинических случаях полового безумия, как «вампиризм» или «некрофильство». Может ли мертвая любить живого? Этот вопрос кажется еще более нелепым и чудовищным: уже в нем самом – как бы начало безумия. Вот почему людям наших дней так трудно понять любовь Данте к Беатриче: в лучшем случае, эта любовь для нас только живой художественный символ, а в худшем – мертвая аллегория. «Беатриче – Священная Теология, la sacra Teologia», как объясняет Боккачио и вслед за ним другие бесчисленные истолкователи Данте[6].
Деторождение – пол и смерть, начало и конец жизни, – для людей не только нашего времени, но и всей христианской эры – две, чувственно физически и метафизически сверхчувственно, несоединимые категории, два несовместимых порядка. Но древняя мистерия – религиозная душа всего дохристианского человечества – только и начинается с вопроса о соединении этих двух порядков; исходная точка всех древних мистерий, от Египта и Вавилона до Елевзиса и Само-фракии, есть половое ощущение трансцендентного, как Божественного или демонического. Бог Любви и бог смерти, Эрос и Танатос, в мистериях, – два неразлучных близнеца.
Может ли живой чувственно любить мертвую? Может ли мертвая так любить живого? Для Данте здесь нет вопроса: он больше, чем верит, – он знает, что это не только может быть, но и есть; и что ни на земле, ни на небе нет ничего прекраснее, чище, святее, чем это.
Данте, вероятно, думает, или хотел бы думать, что любит Беатриче умершую, как любил живую, – духовно бесплотно. Но так ли это? В этом, конечно, весь вопрос. Что такое для Данте Беатриче, в своих посмертных «чудесных видениях» – явлениях, mirabile visione? Только ли «бесплотный дух», «призрак», – «галлюцинация», по-нашему? Нет, Данте больше, чем верит, – он знает, что она приходит к нему, живому, – живая, хотя и в ином, нездешнем, «прославленном», теле. Может ли это быть? Но если не может, то не могло быть и этого:
Сам Иисус стал посреди них и сказал: мир вам. Они же, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа (демона, daimon, по другому чтению).
Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?.. Это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня (Лк. 24, 36—39).
Так же, как ученики Иисуса, пугается и Данте, при первом явлении Беатриче в Земном Раю:
...я весь дрожу,
Вся кровь моя оледенела в жилах[7].
И Беатриче говорит ему те ж почти слова, как Иисус – ученикам:
...Смотри же, смотри: это я,
Я – Беатриче![8]
То, что открывалось религиозному опыту всего дохристианского человечества как божественная красота, в соединении двух порядков, здешнего и нездешнего, – Любви и Смерти, – смутно мерещится и людям христианской эры, но уже в искажениях демонических.
Брачная любовь живых к мертвым – сильнейший ожог темных лучей «полового радия». Гоголь знал об этом. Прекрасная панночка-ведьма скачет верхом на молодом бурсаке, Хоме Бруте; он отмаливается, сам вскакивает на нее и, загоняв ее до смерти, влюбляется в мертвую. «Он подошел к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей – и не мог, несколько вздрогнувши, не зажмурить глаз... Такая страшная, сверкающая красота... В чертах лица ничего не было тусклого, мутного, умершего: оно было живо»[9]. Жизнь сквозь смерть, пол сквозь смерть, – вот в чем ожог радия.
Жалкою гибелью – сначала безумием, а потом смертью – кончается первая брачная ночь живого жениха, Аратова, и мертвой невесты, Клары Милич[10]. Та же гибель постигает и новобрачных в «Коринфской невесте» Гёте.
Выхожу я ночью из могилы,
Чтоб блаженства моего искать,
И, придя туда, где спит мой милый,
Кровь из сердца у него сосать.
Слыша это, как не вспомнить пожираемого возлюбленной сердца любимого, в первом видении Данте?
В книге XVII века, «О поклонении демонам», откуда Гёте заимствует легенду, мертвая невеста говорит родителям жениха: «Не без воли Божьей я сюда пришла!» В этих для нас кощунственных или непонятных словах – как бы родимое пятнышко – знак тайного сродства этой христианской легенды с дохристианским таинством[11].
Кажется, знает и Данте этот страшный ожог темных лучей. «Кто мы такие? Кто мы такие?» – спрашивают влюбленных юношей девушки в цветных масках, на флорентийских играх бога Любви[12]; так же могла бы спросить и Беатриче у Данте, приходя к нему, после смерти: «Кто я такая? Кто я такая? Живая или мертвая? Небесная или подземная?»
«Будут два одна плоть», – будут, но не суть, в любви брачной, рождающей, смертной, ибо умирает все, что рождается; будут, – в любви бессмертной, воскрешающей.
Сыны Воскресения не женятся, ни замуж не выходят, ибо равны Ангелам (Лк. 20, 35—36).
Но что же такое влюбленность, самое небесное из всех земных чувств, как не греза о небе на земле уснувшего Ангела? И почему сыны Воскресения – «Сыны чертога брачного»? Грешный пол уничтожен ли, в святой, преображенной плоти, или преображен вместе с нею?
В Абидосском храме фараона Сэти I, и на гробнице Озириса, в Абидосском некрополе, и в тайном притворе Дендерахского святилища, всюду повторяется одно изображение: на смертном ложе лежит Озирисова мумия, окутанная саваном, – воскресающий, но еще не воскресший, мертвец; и богиня Изида, ястребиха, парящая в воздухе, опускаясь на него, соединяется в любви, живая с мертвым[13]. «Лицо Изиды светом озарилось; овеяла крылами Озириса, – и вопль плачевный подняла о брате»:
Я – сестра твоя, на земле тебя любившая;
никто не любил тебя больше, чем я!
И в Песне Песней Израиль вторит Египту:
Ночью на ложе моем,
искала я того, кого любит душа моя;
искала его, и не нашла...
...Положи меня, как печать, на сердце свое,
как перстень, на руку свою;
ибо крепка любовь, как смерть.
Две тысячи лет Церковь христианская поет эту песнь любви, и мы не слышим, не понимаем, жалкие скопцы и распутники: надо, воистину, иметь в жилах кровь мертвеца, чтобы не понять, что нет и не будет большей любви, чем эта. «Никто на земле не любил тебя больше, чем я!» – «Крепка любовь, как смерть». Это и значит: любовь сквозь смерть – сквозь смерть Воскресение.
Это, может быть, понял бы Данте, лобзая последним лобзанием Беатриче в гробу: только в разлуке смертной понимает любящий, что любовь есть путь к Воскресению.
Главное, еще неизвестное людям, будущее величие Данте – не в том, что он создал «Божественную комедию», ни даже в том, что он вообще что-то сделал, а в том, что был первым и единственным человеком, не святым, в Церкви, а грешным, в миру, увидевшим в брачной любви Воскресение.
Если в жизни каждого человека, великого и малого, святого и грешного, повторяется жизнь Сына Человеческого, то понятно, почему Данте запомнил, что в последнем земном видении Беатриче, которым кончилась первая половина жизни его и началась вторая, явилась ему Возлюбленная, «в одежде цвета крови», в девятом часу дня. Час девятый, а по иудейскому – третий.
Час был третий, и распяли Его (Мк. 15, 25).
В тот же час, и Данте, один из великих сынов человеческих, был распят на кресте Любви.
XI
МЕЖДУ ЗЕМНОЙ И НЕБЕСНОЙ
Кое-что, хотя и очень мало, мы знаем о том, как Данте любил чужую жену, монну Биче де Барди; но о том, как он любил свою жену, монну Джемму Алигьери, мы совершенно ничего не знаем. Эта часть жизни его забыта и презрена не только другими, но и им самим.
Между Данте и Беатриче совершается Божественная Комедия, а между Данте и Джеммой – человеческая трагедия; ту видят все, а эту – никто. «Знал... об этой борьбе с самим собою... только тот несчастный, который чувствовал ее в себе»[1].
Если верить Боккачио, Данте хуже, чем не любил, – «ненавидел» жену свою: «Знала она, что счастье мужа зависит от любви к другой, а несчастье – от ненависти к ней»[2].
Как женился Данте? По свидетельству того же Боккачио, единственного из всех его жизнеописателей, который кое-что знает об этом или думает, что знает, – «видя убийственно горе Данте об умершей Беатриче» и полагая, что своя жена будет для него наилучшим лекарством от любви к чужой, родственники долго убеждали его и наконец убедили жениться. Но лекарство оказалось хуже болезни. – «О, невыразимая усталость жить всегда с таким подозрительным животным, sospettoso animale (как ревнивая жена)... и стареть и умирать, в его сообществе!»[3]
После общих мест о несчастных браках почти всех поэтов и философов, Боккачио оговаривается: «Произошло ли и с Данте нечто подобное... я, конечно, не знаю»[4]. Но тут же ссылается на довольно убедительный довод в пользу своих догадок о несчастном браке Данте: «Раз покинув жену, он уже никогда не хотел быть там, где была она, и не терпел, чтобы она была там, где он»[5]. Можно бы на это возразить, что, если бы Данте и любил жену и даже в этом случае, тем более, – он не захотел бы подвергать ее всем бедствиям своей изгнаннической жизни. Но для последних годов этой жизни, проведенных в Равенне, в сравнительном довольстве и покое, довод Боккачио остается в полной силе: если оба сына, Пьетро и Джьякопо, вместе с дочерью Антонией, могли приехать к отцу и поселиться с ним на эти годы, то могла бы это сделать и жена. А если она этого не сделала, то очень похоже, что Боккачио прав: Данте не любил жену и не хотел жить с нею[6].
Есть на это косвенный намек и у Петрарки, одного из очень немногих, чьи сведения о Данте идут не от Боккачио: «Любовь к жене и детям не могла отвлечь Данте от науки и поэзии; только одного искал он – тени, тишины и молчания»[7].
Кажется, в связи с тем, о чем догадывается Боккачио, и на что намекает Петрарка, знаменательно и молчание самого Данте о жене; и тем знаменательнее, что память сердца у него очень верная. Главная для него горечь изгнания – разлука с любимыми:
О, если б только с милыми разлука
Мне пламенем тоски неугасимой
Не пожирала тела на костях![8]
Как же, при такой тоске, не обмолвился он, за всю жизнь, ни словом о разлуке с женой? Два молчания Данте – об отце и о жене – отягчены, вероятно, двумя одинаково страшными смыслами: отца презирал, жену ненавидел.
«Зла причинила мне в жизни больше всего злая жена», – мог бы, кажется, сказать и Данте, вместе с одним из грешников, в седьмом круге Ада[9].
Кем была Джемма, злой женой или доброй, мы не знаем; но, по некоторым свидетельствам, можно догадываться, что если Данте, в самом деле, не любил ее, или даже ненавидел, то не был к ней справедлив. В 1297 году Дантов тесть, Джеммин отец, Манетто Донати, зная, конечно, как зять небогат и как трудно ему будет выплатить долг, согласился быть поручителем в довольно большом, по тогдашнему времени, займе его, – тысяч в десять лир золотом, на наши деньги. Очень вероятно, что он согласился на это, по просьбе дочери[10]. Судя по этому, Джемма любила Данте и могла бы ему быть доброй женой.
Когда, после изгнания его, все имущество, не разграбленное чернью, было отобрано в казну, Джемме удалось, с большим трудом, спасти крохи своего приданого и вскормить на них, воспитать и поставить на ноги восемь или десять маленьких детей, – «так умно распорядилась она» этими спасенными крохами: свидетельство тем более драгоценное, что идет от злейшего врага Джеммы, Боккачио[11]. Судя по этому, она не только могла быть, но и была доброй и умной женой. Если же Данте не был с нею счастлив, то, может быть, не по ее вине. Очень вероятно, что за простую любовь и за простое счастье с другим, не знаменитым мужем, она отказалась бы от великой, но слишком дорого ей стоившей, чести быть женою Данте.
«Прижил с ней несколько человек детей», – говорит Боккачио, не сознавая, как это страшно, если муж ненавидит жену[12]. С точностью мы знаем только о двух сыновьях Данте, Пьетро и Джьякопо, и о двух дочерях, Беатриче и Антонии (если это не одно лицо под двумя именами, мирским и монашеским). Но кажется, были у него и другие дети, восемь или десять, за двенадцать лет брака. Детям не мешала рождаться ненависть мужа к земной жене и любовь к Небесной.
Маленькая девочка, Джемма Донати, знала, конечно, что помолвлена, по нотариальной записи, с маленьким мальчиком, Данте Алигьери, своим ближайшим соседом по Сан-Мартиновой площади. Долгие годы видела невеста, что жених ее любит другую, и слушала повторяемые всеми вокруг нее «сладкие речи любви», сказанные не ей, а другой. Очень вероятно, что Данте, вопреки Боккачио, женился не после, а до смерти Беатриче. Если так, то Джемма видела все муки любви мужа к другой, и того, что видела, было бы достаточно для всякой женщины, даже ангела во плоти, чтобы сделаться дьяволом или «подозрительным животным».
«Он сердце отдал женщине другой»[13], —
говорит Беатриче, но это с большим правом могла бы сказать Джемма.
Ты должен был свой путь направить к небу...
Не опуская крыльев в дольний прах,
Чтоб новых ждать соблазнов от девчонок[14], —
в этом суде Беатриче над Данте, включает ли она, или не включает, в число «девчонок» и Джемму? Как бы то ни было, более страшной соперницы, чем у жены Данте, не было, и, вероятно, не будет ни у одной женщины в мире. Любит она мужа или не любит, – в сердце ее выжжено имя Беатриче каленым железом.
Чувствовать могла Умершая – Бессмертная замогильную ревность не только к «девчонкам», но и к жене Данте, и даже к этой больше, чем к тем. Вот почему, в «Божественной комедии», оба, Данте и Беатриче, молчат о Джемме, как бы убивают, уничтожают ее этим молчанием, небесные – земную, вечные – временную. Так же, как Данте, проходит и Беатриче – «Священная теология» – мимо церковного таинства брака, точно мимо пустого места. Но сколько бы они ни уничтожали брак, – не уничтожат: Данте будет навеки между монной Джеммой Алигьери и монной Биче де Барди, вечной женой и вечной возлюбленной: а Беатриче – между сером Симоне и Данте, вечным мужем и вечным возлюбленным.
Бедная жена, бедное «животное»! Нет ее вовсе, не должно быть и не может быть, в вечности; «пар у нее вместо души», как у животных. Но если так, в глазах человеческих, то, может быть, в Божьих, – не так; столь же бессмертна душа и у той, как у этой. Двое, в глазах человеческих, – Данте и Беатриче, а в глазах Божьих, – трое: Данте, Беатриче и Джемма. Здесь, как везде и всегда, в жизни Данте, – но в каком грозном для него и неведомом, спасающем или губящем смысле, – Три.
Кто будет судить Данте, кроме Того, Кто его создал и велел ему быть таким, каков он есть? Но нет никакого сомнения: в свидетельницы на суд Божий над Данте вызвана будет и Джемма.
Может быть, о Сократе кое-что знает Ксантиппа, чего не знает Платон; знает, может быть, и Джемма кое-что о Данте, чего не знает история. Пусть это знание – самое простое, земное, или даже «подземное»; оно все-таки подлинное. Если бы и мы знали о нем все, что знает Джемма, каким новым светом озарилась бы, может быть, вся его жизнь и любовь к Беатриче!
Жена Данте, Джемма Донати, и Нэлла Донати, жена Форезе, – родственницы, кажется, не только во времени, но и в вечности. Если, плача «над мертвым лицом» бывшего друга здесь, на земле, стыдно было Данте вспомнить, как оскорбил он жену его непристойной шуткой, в одном из тех бранных сонетов, которыми обменялся с ним, в ссоре, – то насколько было ему стыднее вспомнить об этом, на горе Чистилища, плача над его живым, «искаженным» мукой лицом!
И я спросил: «Как ты вошел, Форезе,
Сюда, наверх? Тебя я думал встретить
На тех уступах нижних, где грехи
Мученьем долгим искупают души».
И он – в ответ: «Моя вдовица, Нэлла,
Сюда меня так скоро привела,
Пить мучеников сладкую полынь, —
Молитвами и сокрушенным плачем
Освободив от долгих мук внизу.
И знаю: тем она любезней Богу,
В святой любви ко мне и в добром деле,
Чем более, в злом мире, одинока»[15].
Этих простых и вечных слов о брачной любви не вложил бы Данте в уста Форезе, если б чего-то не знал о святом браке, о святой земной любви. – «Брак не может быть помехой... для святой жизни... как думают те, кто постригается в монашество. Только внутренней веры хочет от нас Бог»[16]. Это знает грешный Данте лучше многих святых.
Джемма, если бы Данте любил ее, могла бы стать второй Нэллой. Как Франческа да Римини, Нэлла-Джемма – земная Беатриче, но не во грехе, а в святости. Та совершает чудо любви, на небе, а эта, – на земле. Как соединить земную любовь с небесной? На этот вопрос, поставленный миру и Церкви всей жизнью и творчеством Данте, никто не ответил; и даже никто не услышал его, ни в миру, ни в Церкви.
Людям Церкви Данте кажется сейчас «правоверным католиком». Но если бы исполнилось то, чего он хотел для себя и для мира; если бы мир понял и принял его, «не для созерцания, а для действия», то люди Церкви, вероятно, почувствовали бы в нем и сейчас, как это было при жизни его, запах «ереси» – дым костра, и были бы по-своему правы, потому что одно из двух: или вся полнота брачной любви вмещается в церковном таинстве брака, и тогда любить чужую жену и видеть в этом нечто божественное, как делает Данте, в любви к Беатриче, – значит быть в ереси; или же этой любовью поставлено под знак вопроса церковное таинство брака. А если так, то «Новая Жизнь начинается», incipit Vita Nova, значит: «начинается Вечное Евангелие», incipit Evangelium Actemum, – уже не сына, а Духа, не Второй Завет, а Третий[17].
«После Нового Завета ничего не будет, post Novum Testamentum non erit aliud», – устами св. Бонавентуры возвещает Римская Церковь[18]. «После Нового Второго Завета будет Третий, – Вечное Евангелие Духа Святого», – возвещает устами Данте Иоахим Флорский, —
Калабрийский аббат, Иоахим,
одаренный пророческим духом»[19], —
именно здесь, в брачной любви.
«Это люди, возмущающие вселенную», – жаловались Иудеи римским правителям, в городе Фессалонике, во дни ап. Павла, на учеников Иисуса (Д. А. 17, 6). Распят был и сам Иисус за то, что «возмущал народ» (Лк. 23, 5). И в этом Иудеи были тоже по-своему правы: если высшая мера всего – Закон, а не свобода, то величайший из «возмутителей» – Он, восставший на Закон во имя свободы так, как никто не восставал и не восстанет.
Данте, в любви и во многом другом, – тоже «возмутитель», «революционер», говоря на языке государства; а на языке Церкви – «еретик».
Все «возмущения», «революции», политические и социальные, внешние, совершающиеся между телами и душами человеческими, – буйны, но слабы и неокончательны; только «революция пола», внутренняя, совершающаяся в душе и в теле человека, тишайшая и сильнейшая, окончательна. Начал ее, или мог бы начать, еще неизвестный людям, не прошлый и не настоящий, а будущий Данте.
Кто может вместить, да вместит» (Мт. 19, 12) —
сказано о браке.
«Вы теперь не можете (еще) вместить» (Ио. 16, 12) —
сказано о Духе: этими двумя словами тайна Брака соединяется с тайной Духа. К соединению этому никто, может быть, не был ближе, чем Данте.
Мы, по обетованию Его (Иисуса), ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда (II Пет. 3, 13).
В Царстве Божием, на новой земле, под новым небом, будет, конечно, и новая брачная любовь. С большей надеждой и большим бесстрашием, чем Данте, никто не устремлялся к этой новой любви; с большей мукою никто не был распят на ее кресте. И если будет когда-нибудь эта любовь, то потому, что Данте любил Беатриче.