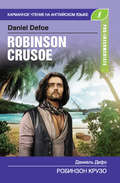Даниэль Дефо
Приключения Робинзона Крузо
Опять настала дождливая пора осеннего равноденствия, и опять я торжественно отпраздновал 30 сентября – вторую годовщину моего пребывания на острове. Надежды на избавление у меня было так же мало, как и в момент моего прибытия сюда. Весь день 30 сентября я провел в благочестивых размышлениях, смиренно и с благодарностью вспоминая многие милости, которые были ниспосланы мне в моем уединении и без которых мое положение было бы бесконечно печально. Смиренно и искренне благодарил я Бога, по милости Своей открывшего мне, что и в моей одинокой жизни можно быть счастливее, чем наслаждаясь человеческим обществом и всеми благами мира: ведь отсутствие человеческого общества и все тяготы моего положения с избытком искупаются Его Божественным присутствием; благодарил я Создателя и за Его неизменную благость ко мне, воодушевляющую меня уповать и на Господень промысел здесь, на земле, и на Его милосердие в вечном мире.
Теперь наконец я ясно ощущал, насколько моя теперешняя жизнь, со всеми ее страданиями и невзгодами, счастливее той позорной, исполненной греха, омерзительной жизни, какую я вел прежде. Все во мне изменилось: горе и радость я понимал теперь совершенно иначе; не те были у меня желания, страсти потеряли свою остроту; то, что в момент моего прибытия сюда и даже в течение этих двух лет доставляло мне наслаждение, теперь для меня не существовало.
Когда в первое время я выходил на охоту или для осмотра местности и перед моими глазами открывались леса, горы и пустыни, где я осужден был жить один, без помощи и надежды на освобождение, окруженный вечными заставами и затворами океана, тогда мною овладевала мучительная смертельная тоска и сердце обливалось кровью. Не раз, в самом покойном состоянии духа, мысль эта вихрем проносилась в моей несчастной голове, и тогда, в порыве отчаяния, я ломал руки и плакал, как дитя. Иногда, среди занятий, я вдруг останавливался и, под гнетом тех же тяжких дум, бросал работу, садился на землю и с неподвижным взором и глубокими стонами оставался в таком положении час или два. Это немое отчаяние было невыносимо, потому что всегда легче излить горе словами или слезами, чем таить его в себе.
Но теперь я стал приучать себя к новым мыслям. Ежедневно читал я Священное писание и применял к себе звучащие в нем слова утешения. Однажды утром в подавленном настроении я раскрыл Библию и прочел: «Я никогда тебя не оставлю и не покину тебя». Я сразу понял, что слова эти обращены ко мне – иначе зачем бы попались они мне на глаза именно в тот момент, когда я оплакивал свое положение – положение человека, забытого Богом и людьми? «А раз так, – сказал я себе, – раз Господь не покинет меня, то стоит ли горевать – пусть даже весь мир покинет меня? С другой стороны, если бы даже весь мир был у ног моих, но я лишился бы поддержки и благословения Господня – не очевидно ли, что вторая потеря была бы во сто крат страшнее?»
И тут я решил, что в этом заброшенном и пустынном месте я смогу быть счастливее, чем в каком-либо другом. И с этой мыслью я уж готов был возблагодарить Бога за то, что Он привел меня сюда, но что-то – не знаю, что это было, – возмутилось во мне и не позволило произнести слова молитвы. «Как можешь ты так лицемерить, – произнес я прямо вслух, – притворяться благодарным за то положение, от которого, несмотря на все твои благие намерения быть им довольным, ты бы пламенно молил Бога избавить тебя?» Поэтому я и остановился. Но хотя я и не мог возблагодарить Бога за то, что оказался на острове, я искренне благодарил Его за то, что глаза мои наконец открылись – пусть благодаря обрушившимся на меня несчастьям – на мою прошлую жизнь, что я способен оплакать мои старые грехи и раскаяться. И не было случая, чтобы я открывал Библию или закрывал ее, не возблагодарив Создателя, направлявшего руку моей старой лондонской приятельницы, когда она – без всякой просьбы с моей стороны – упаковала Библию вместе с товарами, и помогшего мне впоследствии спасти ее с затонувшего корабля.
Таково было состояние моего духа, когда начался третий год моего заточения. Я не хотел утомлять читателя мелочными подробностями, а потому второй год моей жизни на острове описан у меня не так обстоятельно, как первый. Все же нужно сказать, что я и в этот год редко оставался праздным. Я строго распределил свое время соответственно занятиям, которым я предавался в течение дня. На первом плане стояли религиозные обязанности и чтение Священного писания – им я неизменно отводил известное время три раза в день. Вторым из ежедневных моих дел была охота, занимавшая у меня часа по три каждое утро, когда не было дождя. Третьим делом была сортировка, сушка и приготовление убитой или пойманной дичи; на эту работу уходила большая часть дня. При этом следует принять в расчет, что, начиная с полудня, когда солнце подходило к зениту, наступал такой гнетущий зной, что не было возможности даже двигаться; затем оставалось еще не более четырех вечерних часов, которые я мог уделить работе. Случалось и так, что я менял часы охоты и домашних занятий: поутру работал, а перед вечером выходил на охоту.
У меня не только было мало времени, которое я мог посвящать работе, но она стоила мне также невероятных усилий и подвигалась очень медленно. Сколько часов терял я из-за отсутствия инструментов, помощников и недостатка сноровки! Так, например, я потратил сорок два дня только на то, чтобы сделать доску для длинной полки в моем погребе, между тем как два плотника, имея необходимые инструменты, выпиливают из одного дерева шесть таких досок в полдня.
Я действовал так: выбрал большое дерево, ибо мне была нужна широкая доска. Три дня я рубил это дерево и два дня обрубал с него ветки, чтобы получить бревно. Уж я не знаю, сколько времени я обтесывал его с обеих сторон, покуда тяжесть его не уменьшилась настолько, что его можно было сдвинуть с места. Тогда я обтесал одну сторону начисто по всей длине бревна, затем перевернул его этой стороной вниз и обтесал таким же образом другую. Работу я продолжал до тех пор, пока не получил ровной и гладкой доски толщиною около трех дюймов. Читатель может судить, какого труда стоила мне эта доска. Но упорство и труд помогли мне довести до конца как эту работу, так и много других. Я привел здесь подробности, чтобы объяснить, почему у меня уходило так много времени на сравнительно небольшую работу, то есть небольшую при условии, если у вас есть помощник и инструменты, но требующую огромного времени и усилий, если делать ее одному и чуть не голыми руками.
Несмотря на все это, я терпением и трудом довел до конца все работы, к которым был вынужден обстоятельствами, как видно будет из последующего.
В ноябре и декабре я ждал урожай ячменя и риса. Засеянный мной участок был невелик, ибо, как было сказано выше, у меня вследствие засухи пропал весь посев первого года и оставалось не более половины пека каждого сорта зерна. На этот раз урожай обещал быть превосходным, как вдруг я сделал открытие, что снова рискую потерять весь сбор, так как мое поле опустошается многочисленными врагами, от которых трудно уберечься. Эти враги были, во-первых, козы, во-вторых, те зверьки, которых я назвал зайцами. Очевидно, стебельки риса и ячменя пришлись им по вкусу: они дневали и ночевали на моем поле и начисто уничтожали всходы, не давая им возможности выкинуть колос.
Против этого было лишь одно средство: огородить все поле, что я и сделал. Но эта работа стоила мне большого труда, главным образом потому, что надо было спешить. Впрочем, мое поле было таких скромных размеров, что через три недели изгородь была готова. Днем я отпугивал врагов выстрелами, а на ночь привязывал к изгороди собаку, которая лаяла всю ночь напролет. Благодаря этим мерам предосторожности прожорливые животные ушли от этого места; мой хлеб отлично выколосился и стал быстро созревать.
Но как прежде, пока хлеб был в зеленях, меня разоряли четвероногие, так начали разорять меня птицы теперь, когда он заколосился. Как-то раз, обходя свою пашню, я увидел, что над ней кружатся целые стаи пернатых, видимо карауливших, когда я уйду. Я сейчас же выпустил в них заряд дроби (я всегда носил с собой ружье), но не успел я выстрелить, как с самой пашни поднялась другая стая, которой я сначала не заметил.
Это не на шутку взволновало меня. Я предвидел, что еще несколько дней такого грабежа, – и пропадут все мои надежды; я, значит, буду голодать, и мне никогда не удастся собрать урожай. Я не мог придумать, чем помочь горю. Тем не менее я решил во что бы то ни стало отстоять свой хлеб, хотя бы мне пришлось караулить его день и ночь. Но сначала я обошел все поле, чтобы установить, много ли ущерба причинили мне птицы. Оказалось, что хлеб порядком попорчен, но так как зерно еще не совсем созрело, то потеря была бы невелика, если б удалось сберечь остальное.
Я зарядил ружье и сделал вид, что ухожу с поля (я видел, что птицы притаились на ближайших деревьях и ждут, чтобы я ушел). Действительно, едва я скрылся у них из виду, как эти воришки стали спускаться на поле один за другим. Это так меня рассердило, что я не мог утерпеть и не дождался, пока их спустится побольше. Я знал, что каждое зерно, которое они съедят теперь, может принести со временем целый пек хлеба. Подбежав к изгороди, я выстрелил – три птицы остались на месте. Того только мне и нужно было; я поднял всех трех и поступил с ними, как поступают у нас в Англии с отъявленными ворами, а именно повесил их для острастки других{87}. Невозможно описать, какое поразительное действие произвела эта мера: не только ни одна птица не села больше на поле, но все улетели из моей части острова, по крайней мере, я не видел ни одной за все время, пока мои три пугала висели на шесте.
Легко представить, как я был этому рад. К концу декабря – время второго сбора хлебов – мои ячмень и рис поспели, и я снял урожай.
Перед жатвой я был в большом затруднении, не имея ни косы, ни серпа; единственное, что я мог сделать, – воспользоваться для этой работы широким тесаком, взятым мною с корабля в числе другого оружия. Впрочем, урожай мой был так невелик, что убрать его не составляло большого труда, да и убирал я его особенным способом: я срезал только колосья, которые и уносил в большой корзине, а затем перетирал руками. В результате из половины пека семян каждого сорта вышло около двух бушелей риса{88} и два с половиной бушеля ячменя, конечно, по приблизительному подсчету, так как у меня не было мер.
Такая удача очень меня ободрила: теперь я мог надеяться, что со временем у меня будет, с Божьей помощью, постоянный запас хлеба. Но передо мной явились новые затруднения. Как измолоть зерно или превратить его в муку? Как просеять муку? Как сделать из муки тесто? Как, наконец, испечь из теста хлеб? Ничего этого я не умел. Все эти затруднения в соединении с желанием отложить про запас побольше семян, чтобы обеспечить себя хлебом, привели меня к решению не трогать урожай этого года, оставив его весь на семена, а тем временем посвятить все рабочие часы и приложить все старания для разрешения главной задачи, то есть превращения зерна в хлеб.
Теперь про меня можно было буквально сказать, что я своими руками добываю свой хлеб{89}. Удивительно, что почти никто не задумывается над тем, какое множество мелких работ надо произвести, чтобы вырастить, сохранить, собрать, приготовить и выпечь обыкновенный кусок хлеба{90}.
Оказавшись в самых первобытных условиях жизни, я ежедневно приходил в отчаяние, ибо трудности давали себя знать все сильнее и сильнее, начиная с той минуты, когда я собрал первую горсть зерен ячменя и риса, так неожиданно выросших у моего дома.
Во-первых, у меня не было ни плуга для вспашки, ни даже заступа или лопатки, чтобы хоть как-нибудь вскопать землю. Как уже было сказано, я преодолел это препятствие, сделав себе деревянную лопату. Но каков инструмент, такова и работа. Не говоря уже о том, что моя лопата, не будучи обита железом, служила очень недолго (хотя, чтобы сделать ее, мне понадобилось много дней), работать ею было тяжелее, чем железной, и сама работа выходила много хуже.
Однако я с этим примирился: вооружившись терпением и не смущаясь качеством своей работы, я продолжал копать. Когда зерно было посеяно, нечем было забороновать его. Пришлось вместо бороны возить по полю большой тяжелый сук, который, впрочем, только царапал землю.
А сколько разнообразных дел мне пришлось переделать, пока мой хлеб рос и созревал! Надо было обнести поле оградой, караулить его, потом жать, убирать, молотить (то есть перетирать в руках колосья, чтобы отделить зерно от мякины). Затем мне понадобились: мельница, чтобы смолоть зерно; сита, чтобы просеять муку; соль и дрожжи, чтобы замесить тесто; печь, чтобы выпечь хлеб. И однако, как увидит читатель, я обошелся без всех этих вещей. Иметь хлеб было для меня неоценимой наградой и наслаждением{91}. Все это требовало от меня тяжелого и упорного труда, но иного выхода не было. Время мое было распределено, и я занимался этой работой несколько часов ежедневно. А так как я решил не расходовать зерна до тех пор, пока его не накопится побольше, то у меня было впереди шесть месяцев, которые я мог всецело посвятить изобретению и изготовлению орудий, необходимых для переработки зерна в хлеб.
Но сначала надо было приготовить под посев более обширный участок земли, так как теперь у меня было столько семян, что я мог засеять больше акра{92}. Еще прежде я сделал лопату, что отняло у меня целую неделю. Новая лопата доставила мне одно огорчение: она была тяжела, и ею было вдвое труднее работать. Как бы то ни было, я вскопал свое поле и засеял два больших и ровных участка земли, которые я выбрал как можно ближе к моему дому и обнес частоколом из того дерева, которое так легко принималось. Таким образом, через год мой частокол должен был превратиться в живую изгородь, почти не требующую исправления. Все вместе – распашка земли и сооружение изгороди – заняло у меня не менее трех месяцев, так как большая часть работы пришлась на дождливую пору, когда я не мог выходить из дома.
В те дни, когда шел дождь и мне приходилось сидеть в пещере, я делал другую необходимую работу, стараясь между делом развлекаться разговорами со своим попугаем. Скоро он уже знал свое имя, а потом научился довольно громко произносить его. «Попка» было первым словом, какое я услышал на моем острове, так сказать, из чужих уст. Но разговоры с Попкой, как уже сказано, были для меня не работой, а только развлечением в труде. В то время я был занят очень важным делом. Давно уже я старался тем или иным способом изготовить себе глиняную посуду, в которой я сильно нуждался, но совершенно не знал, как осуществить это. Я не сомневался, что сумею вылепить что-нибудь вроде горшка, если только мне удастся найти хорошую глину. Что же касается обжигания, то я считал, что в жарком климате для этого достаточно солнечного тепла и что, посохнув на солнце, посуда станет настолько крепкой, что можно будет брать ее в руки и хранить в ней все припасы, которые надо держать в сухом виде. И вот я решил вылепить несколько кувшинов возможно большего размера, чтобы хранить в них зерно, муку и т. п.
Воображаю, как пожалел бы меня читатель (а может, и посмеялся бы надо мной), если б я рассказал, как неумело я замесил глину, какие нелепые, неуклюжие, уродливые произведения выходили у меня, сколько моих изделий развалилось оттого, что глина была слишком рыхлая и не выдерживала собственной тяжести, сколько других потрескалось оттого, что я поспешил выставить их на солнце, а сколько рассыпалось на мелкие куски при первом же прикосновении к ним как до, так и после просушки. Довольно сказать, что после двухмесячных неутомимых трудов, когда я наконец нашел глину, накопал ее, принес домой и начал работать, у меня получились только две больших безобразных глиняных посудины{93}, потому что кувшинами их нельзя было назвать.
Когда мои горшки хорошо высохли и затвердели на солнце, я осторожно приподнял их один за другим и поставил каждый в одну из больших корзин, которые я сплел специально для них. В пустое пространство между горшками и корзинами я напихал рисовой и ячменной соломы. Чтобы горшки эти не отсырели, я предназначил их для хранения сухого зерна, а со временем, когда оно будет перемолото, под муку.
Хотя крупные изделия из глины вышли у меня неудачными, дело пошло значительно лучше с мелкой посудой: круглыми горшочками, тарелками, кружками, котелками и тому подобными вещицами. Солнечный жар обжигал их и делал достаточно прочными.
Но моя главная цель все же не была достигнута: мне нужна была посуда, которая не пропускала бы воду и выдерживала бы огонь, а этого-то я и не мог добиться. Но вот как-то раз я развел большой огонь, чтобы приготовить себе мясо. Когда мясо изжарилось, я хотел загасить уголья и нашел между ними случайно попавший в огонь черепок от разбившегося глиняного горшка; он затвердел, как камень, и стал красным, как кирпич. Я был приятно поражен этим открытием и сказал себе, что если черепок так затвердел от огня, то, значит, с таким же успехом можно обжечь на огне и целую посудину.
Это заставило меня подумать о том, как развести огонь для обжигания моих горшков. Я не имел никакого понятия о печах для обжигания извести, какими пользуются гончары, и ничего не слыхал о муравлении свинцом, хотя у меня нашлось бы для этой цели немного свинца. Поставив на кучу горячей золы три больших глиняных горшка и на них три поменьше, я обложил их кругом и сверху дровами и хворостом и развел огонь. По мере того как дрова прогорали, я подкладывал новые поленья, пока мои горшки не прокалились насквозь, причем ни один из них не раскололся. В этом раскаленном состоянии я держал их в огне часов пять или шесть, как вдруг заметил, что один из них начал плавиться, хотя остался цел; это расплавился от жара смешанный с глиной песок, который превратился бы в стекло, если бы я продолжал накалять его. Я постепенно убавил огонь, и красный цвет горшков стал менее ярок. Я сидел подле них всю ночь, чтобы не дать огню слишком быстро погаснуть, и к утру в моем распоряжении были три очень хороших, хотя и не очень красивых, глиняных кувшина и три горшка, так хорошо обожженных, что лучше нельзя и желать, и в том числе один муравленный расплавившимся песком.
Нечего и говорить, что после этого опыта у меня уже не было недостатка в глиняной посуде. Но должен сознаться, что внешний вид моей посуды оставлял желать многого. Да и можно ли этому удивляться? Ведь я делал ее таким же способом, как дети делают куличи из грязи или как делают пироги женщины, которые не умеют замесить тесто.
Я думаю, ни один человек в мире не испытывал такой радости по поводу столь заурядной вещи, какую испытал я, когда убедился, что мне удалось сделать вполне огнеупорную глиняную посуду. Я едва мог дождаться, когда мои горшки остынут, чтобы можно было налить в один из них воды и сварить в нем мясо. Все вышло превосходно: я сварил себе из куска козленка очень хорошего супу, хотя у меня не было ни овсяной муки, ни других приправ, какие обыкновенно кладутся туда.
Следующей моей заботой было придумать, как сделать каменную ступку, чтобы размалывать, или, вернее, толочь, в ней зерно; располагая только собственными руками, нельзя было и думать о таком сложном произведении искусства, как мельница. Я тщетно ломал себе голову, как выйти из этого положения; в ремесле каменотеса я был круглым невеждой и, кроме того, не имел инструментов. Не один день потратил я на поиски подходящего камня, то есть достаточно твердого и такой величины, чтобы в нем можно было выдолбить углубление, но ничего не нашел. На моем острове были, правда, большие утесы, но от них я не мог ни отколоть, ни отломать нужный кусок. К тому же эти утесы были из довольно хрупкого песчаника; при толчении тяжелым пестом камень стал бы непременно крошиться и зерно засорялось бы песком. Таким образом, потеряв много времени на бесплодные поиски, я отказался от каменной ступки и решил приспособить для этой цели большую колоду из твердого дерева, которую мне удалось найти гораздо скорее. Остановив свой выбор на чурбане такой величины, что я с трудом мог его сдвинуть, я обтесал его топором, чтобы придать ему нужную форму, а затем с величайшим трудом выжег в нем углубление, вроде того как бразильские краснокожие делают свои лодки. Покончив со ступкой, я вытесал большой, тяжелый пест из так называемого железного дерева. И ступку и пест я приберег до следующего урожая, который я решил уже перемолоть, или, вернее, перетолочь, на муку, чтобы готовить из нее хлеб.
Дальнейшее затруднение заключалось в том, как сделать сито или решето для очистки муки от мякины и сора, без чего невозможно было готовить хлеб. Задача была очень трудная, и я не знал даже, как к ней приступиться. У меня не было для этого никакого материала: ни кисеи, ни редкой ткани, через которую можно было бы пропускать муку. От полотняного белья у меня остались одни лохмотья; была козья шерсть, но я не умел ни прясть, ни ткать, а если б и умел, то все равно у меня не было ни прялки, ни станка. На несколько месяцев дело остановилось совершенно, и я не знал, что предпринять. Наконец я вспомнил, что между матросскими вещами, взятыми мною с корабля, было несколько шейных платков из коленкора или муслина. Из этих-то платков я и сделал себе три сита, правда, маленьких, но вполне годных для работы. Ими я обходился несколько лет; о том, как я устроился впоследствии, будет рассказано позже.
Теперь надо было подумать, как я буду печь свои хлебы, когда приготовлю муку. Прежде всего у меня совсем не было закваски; заменить ее было нечем, и я перестал ломать голову над этим. Но устройство печи сильно затрудняло меня. Тем не менее я наконец нашел выход. Я вылепил из глины несколько больших круглых посудин, очень широких, но мелких, а именно около двух футов в диаметре и не более девяти дюймов в глубину; блюда эти я хорошенько обжег на огне и спрятал в кладовую. Когда пришла пора печь хлеб, я развел большой огонь на очаге, который выложил четырехугольными, хорошо обожженными плитами также моего собственного приготовления. Впрочем, четырехугольными их, пожалуй, лучше не называть. Дождавшись, чтобы дрова прогорели, я разгреб уголья по всему очагу и дал им полежать несколько времени, пока очаг не раскалился. Тогда я отгреб весь жар в сторонку, поместив на очаге свои хлебы, накрыл их глиняным блюдом, опрокинув его кверху дном, и завалил горячими угольями. Мои хлебы испеклись, как в самой лучшей печке. Я научился печь лепешки из риса и пудинги и стал хорошим пекарем; только пирогов я не делал, да и то потому, что, кроме козлятины да птичьего мяса, их было нечем начинять.
Неудивительно, что на все эти работы ушел почти целиком третий год моего житья на острове, особенно если принять во внимание, что в промежутках мне нужно было убрать новый урожай и исполнять текущие работы по хозяйству. Хлеб я убрал своевременно, сложил в большие корзины и перенес домой, оставив его в колосьях, пока у меня найдется время перетереть их. Молотить я не мог за неимением гумна и цепа.
Между тем с увеличением моего запаса зерна у меня явилась потребность в более обширном амбаре. Последняя жатва дала мне около двадцати бушелей ячменя и столько же, если не больше, риса, так что для всего зерна не хватало места. Теперь я мог, не стесняясь, расходовать его на еду, что было приятно, так как мои сухари давно уже вышли. Я решил при этом рассчитать, какое количество зерна потребуется для моего продовольствия в течение года, чтобы сеять только раз в год.
Оказалось, что сорока бушелей риса и ячменя мне с избытком хватает на год, и я решил сеять ежегодно столько, сколько посеял в этом году, рассчитывая, что мне будет достаточно и на хлеб, и на лепешки и т. п.
За этой работой я постоянно вспоминал про землю, которую видел с другой стороны моего острова, и в глубине души не переставал лелеять надежду добраться до этой земли, воображая, что в виду материка или вообще населенной страны я как-нибудь найду возможность проникнуть дальше, а может быть, и вовсе вырваться отсюда.
Но я упускал из виду опасности, которые могли грозить мне в таком предприятии; я не думал о том, что могу попасть в руки дикарей, а они, пожалуй, будут похуже африканских тигров и львов: очутись я в их власти, была бы тысяча шансов против одного, что я буду убит, а может быть, и съеден. Ибо я слышал, что обитатели Карибского берега – людоеды, а судя по широте, на которой находился мой остров, он не мог быть особенно далеко от этого берега. Но даже если обитатели той земли не были людоедами, они все равно могли убить меня, как убивали многих попавших к ним европейцев, даже когда тех бывало десять – двадцать человек. А ведь я был один, и беззащитен. Все это, повторяю, я должен был бы принять в соображение. Потом-то я понял всю несообразность своей затеи, но в то время меня не пугали никакие опасности: моя голова всецело была занята мыслями, как бы попасть на отдаленный берег.
Вот когда я пожалел о моем маленьком приятеле Ксури и о парусном боте, на котором я прошел вдоль африканских берегов с лишком тысячу миль! Но что толку было вспоминать?.. Я решил сходить взглянуть на нашу корабельную шлюпку; еще в ту бурю, когда мы потерпели крушение, ее выбросило на остров в нескольких милях от моего жилья. Шлюпка лежала не совсем на прежнем месте: ее опрокинуло прибоем кверху дном и отнесло немного повыше, на самый край песчаной отмели, и воды около нее не было.
Если б мне удалось починить и спустить на воду шлюпку, она выдержала бы морское путешествие, и я без особенных затруднений добрался бы до Бразилии. Но для такой работы было мало одной пары рук. Я упустил из виду, что перевернуть и сдвинуть с места эту шлюпку для меня такая же непосильная задача, как сдвинуть с места мой остров. Но, невзирая ни на что, я решил сделать все, что было в моих силах: отправился в лес, нарубил жердей, которые должны были служить мне рычагами, и перетащил их к шлюпке. Я тешил себя мыслью, что, если мне удастся перевернуть шлюпку на дно, я исправлю ее повреждения, и у меня будет такая лодка, в которой смело можно пуститься в море.
И я не пожалел сил на эту бесплодную работу, потратив на нее недели три или четыре. Убедившись под конец, что с моими слабыми силами мне не поднять такую тяжесть, я принялся подкапывать песок с одного бока шлюпки, чтобы она упала и перевернулась сама; при этом я то здесь, то там подкладывал под нее обрубки дерева, чтобы направить ее падение куда нужно.
Но, когда я закончил эти подготовительные работы, я все же был не способен ни пошевелить шлюпку, ни подвести под нее рычаги, а тем более спустить ее на воду, так что мне пришлось отказаться от своей затеи. Несмотря на это, мое стремление пуститься в океан не только не ослабевало, но, напротив, возрастало вместе с ростом препятствий на пути к его осуществлению.
Наконец я решил попытаться сделать челнок или, еще лучше, пирогу, какие делают туземцы в этих странах, почти без всяких инструментов и без помощников, прямо из ствола большого дерева. Я считал это не только возможным, но и легким делом, и мысль об этой работе очень увлекала меня. Мне казалось, что у меня больше средств для выполнения ее, чем у негров или индейцев. Я не принял во внимание большого неудобства моего положения сравнительно с положением дикарей, а именно – недостатка рук, чтобы спустить пирогу на воду, а между тем это препятствие было гораздо серьезнее, чем недостаток инструментов. Допустим, я нашел бы в лесу подходящее толстое дерево и с великим трудом свалил его; допустим даже, что с помощью своих инструментов я обтесал бы его снаружи и придал ему форму лодки, затем выдолбил или выжег внутри, словом, сделал бы лодку. Какая была мне от этого польза, если я не мог спустить ее на воду и вынужден был бы оставить ее в лесу?
Конечно, если бы я хоть сколько-нибудь отдавал себе отчет в своем положении, то, прежде чем соорудить лодку, непременно задался бы вопросом, как я спущу ее на воду. Но все мои помыслы до такой степени были поглощены предполагаемым путешествием, что я ни разу даже не подумал об этом, хотя было очевидно, что несравненно легче проплыть на лодке сорок пять миль по морю, чем протащить ее по земле сорок пять сажен, отделявших ее от воды.
Одним словом, взявшись за эту работу, я вел себя глупо для человека, находящегося в здравом уме. Я тешился своей затеей, не давая себе труда рассчитать, хватит ли у меня сил справиться с ней. И не то чтобы мысль о спуске на воду совсем не приходила мне в голову, – нет, я просто не давал ей ходу, устраняя ее всякий раз глупейшим ответом: «Прежде сделаю лодку, а там уж, наверное, найдется способ спустить ее».
Рассуждение самое нелепое, но моя разыгравшаяся фантазия не давала мне покоя, и я принялся за работу. Я повалил огромнейший кедр. Думаю, что у самого Соломона не было такого во время постройки Иерусалимского храма{94}. Мой кедр имел пять футов десять дюймов в поперечнике{95} у корней, на высоте двадцати двух футов – четыре фута одиннадцать дюймов; дальше ствол становился тоньше, разветвлялся. Огромного труда стоило мне свалить это дерево. Двадцать дней я рубил сам ствол, да еще четырнадцать дней мне понадобилось, чтобы обрубить сучья и отделить огромную, развесистую верхушку. Целый месяц я отделывал мою колоду снаружи, стараясь придать ей форму лодки, так, чтобы она могла держаться на воде прямо. Три месяца ушло потом на то, чтобы выдолбить ее внутри. Правда, я обошелся без огня и работал только стамеской и молотком. Наконец, благодаря упорному труду мной была сделана прекрасная пирога, которая смело могла поднять человек двадцать пять, а следовательно, и весь мой груз.
Я был в восторге от своего произведения: никогда в жизни я не видал такой большой лодки из цельного дерева. Зато и стоила же она мне трудов! Теперь оставалось только спустить ее на воду, и я не сомневаюсь, что, если бы это мне удалось, я предпринял бы безумнейшее и самое безнадежное из всех морских путешествий{96}.
Но все мои старания спустить ее на воду не привели ни к чему, несмотря на то что они стоили мне огромного труда. До воды было никак не более ста ярдов; но первое затруднение состояло в том, что местность поднималась к берегу в гору. Я храбро решился его устранить, сняв всю лишнюю землю таким образом, чтобы образовался отлогий спуск. Сколько труда я положил на эту работу! Но кто бережет труд, когда дело идет о получении свободы? Когда это препятствие было устранено, дело не подвинулось ни на шаг; я не мог сдвинуть мою пирогу, как раньше не мог шлюпку.