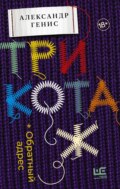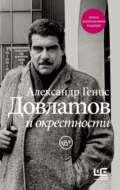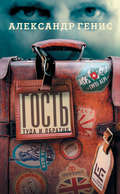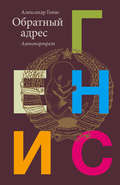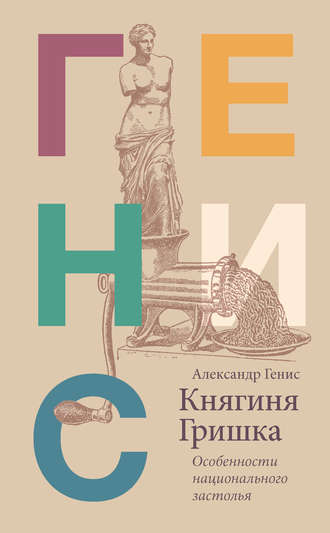
Александр Генис
Княгиня Гришка. Особенности национального застолья
Советский натюрморт
Скудность и случайность советского питания сочеталась с распространением несъедобной – бутафорской – кулинарии. Натюрмортная живопись, фотография, даже скульптура и архитектура стали важной частью соцреалистической культуры, получившей распространение и за пределами СССР. Продукты-муляжи до сих пор широко используются в магазинах Северной Кореи. Объясняя механизм подобных феноменов, Владимир Паперный пишет, что в социалистическом обществе “потребителями благ выступают особые представители населения, а само население сопереживает им с помощью средств массовой информации”.
Вывески. В массе своей неграмотная дореволюционная Россия нуждалась в огромном количестве вывесок. Их по строгому канону писали мастера, входящие в артели, подобные иконописным. Вывески придавали русским городам самобытный, живописный и аппетитный облик, живо напоминающий о фламандских натюрмортах: “Зелень свешивалась из корзин, буквально заполняя обращенный на улицу фасад. По сторонам от входа в мясную висели чудовищного размера быки, над входами в булочные – золоченые крендели, над бакалейными – пирамиды сахарных голов, сыры, над рыбной лавкой – бочки с икрой или осетровые туши. Передвигаясь вдоль улицы, всплошную занятой магазинами, наблюдатель мог любоваться бесконечным нагромождением снеди, наслаждаться ее количественным размахом”.
Исследователь русского примитивизма Евгений Ковтун пишет: ”Поколения художников-передвижников проходили мимо вывесок, смотрели в упор на их живопись и не замечали. Открыли живописную вывеску художники-футуристы». В первую очередь – группа “Бубновый валет”, особенно Михаил Ларионов и Илья Машков. В 1910-е годы увлечение вывесками было так распространено, что критики говорили о тотальной натюрмортизации искусства. Вывески, как самая выразительная, говорящая часть городского пейзажа, сыграли важную роль и в поэзии, особенно у молодого Маяковского.
Кулинарная образность его ранней лирики связана с не настоящей, а бутафорской, вывесочной едой:
На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ…
Читайте железные книги!
Под флейту золоченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы…
А там, под вывеской, где сельди из Керчи…
Та же бутафорская кухня упоминается и в “Мистерии-буфф”, где попавших в рай “нечистых” угощают “облачным молоком и облачным хлебом”.
Вербализация города. В 1913 году, опасаясь, что печатный станок и распространение грамотности убьют вывески, Давид Бурлюк призывал сберечь вывески в музеях, где “аромат и прелесть национального (а не интернационального) духа народного будет жив”. Этот призыв не был услышан, и практически все старые вывески были уничтожены в революцию, ликвидировавшую частное предпринимательство с его конкуренцией.
В результате произошла вербализация русского городского пейзажа. Лишенные имен собственных магазины стали называться предельно просто: “Мясо”, “Молоко”, “Овощи”, “Гастроном”. Эта деталь поражала иностранных туристов: “Трудно привыкнуть к советской торговле – вместо обычного для американцев человеческого имени, скажем, «Мясная лавка Гарри», здесь безликий «Магазин № 43»”.
Бутафорская кулинария. Вытесненная из торговли традиция вывесочного искусства нашла себе другое применение: кулинарные, а шире сельскохозяйственные мотивы проникли вглубь социалистической культуры. Образы плодородия и его атрибутов (колосья, нива, снопы, плоды) стали сквозными для сталинского искусства, что нашло отражение и в архитектурном оформлении практически всех памятников той эпохи. Демонстрирующие достижения советского сельского хозяйства огромные живописные панно-натюрморты, фрески, мозаики украшали крытые рынки, вокзалы, почтамты и другие общественные помещения. Агитационные плакаты с аграрно-гастрономическими сюжетами выставлялись на улицах, площадях и даже автострадах.
В станковой живописи и журнальной фотографии сформировался особый – банкетный – жанр. Обычно это был групповой портрет выдающихся людей, сидящих за тщательно накрытым столом. (См., например, картину Василия Ефанова “Встреча слушателей Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского с артистами театра им. К. С. Станиславского”.) Натюрморты стали играть важную роль и в кино, где особенно прославились кулинарным лицемерием сцены колхозной ярмарки в фильме “Кубанские казаки”.
Идейное вегетарианство. Отличительной чертой пропагандистской кулинарии была ее вегетарианская ориентация. В художественном каноне советского натюрморта мясная кухня занимает незначительное место по сравнению с изображением плодов земледелия – в первую очередь овощей и фруктов. В “Кубанских казаках” гуляющие по ярмарке герои проходят мимо пяти (!) фруктово-овощных лавок. Вся пища в фильме исключительно растительная – чаще всего это арбузы, упоминаются виноград, помидоры, кукуруза и огурцы.
Идейное вегетарианство социализма можно связать с Библией, образную систему которой актуализировала революция. В книге Бытия определенно указывается, что Адам и Ева питались в Эдеме только растительной пищей: “от всякого древа в саду ты будешь есть” (Быт. 2, 16). Вегетарианство коммунизма можно объяснить тем, что он обещал построить земной рай, Эдем. Отсюда знаменитый рефрен из стихотворения Маяковского “Здесь будет город-сад”. Впоследствии садовый мотив развился в грандиозный мичуринский миф.
В противоположность вегетарианской мясная кухня связана с нечистой, мещанской, жирной, тупой, бездуховной пищей – она загрязняет того, кто ее ест. У Маяковского про обывателя:
Как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина.
У Заболоцкого мясная кухня – memento mori, превращающее кулинарию в “кровавое искусство жить”:
И мясо, властью топора,
Лежит, как красная дыра.
Эта библейская гастрономическая антитеза встречается и в “Мастере и Маргарите” Булгакова. У дьявола Воланда все едят мясо: “Азазелло выложил на золотую тарелку шипящий кусок мяса, полил его лимонным соком и подал буфетчику”; “Кусая белыми зубами мясо, Маргарита упивалась текущим из него соком”. Зато булгаковский Христос Иешуа питается райской пищей: “Вчера мы ели сладкие весенние баккуроты”. Баккуроты, или баккурофы, – первые созревшие плоды смоковницы, которыми особенно любят лакомиться на Востоке.
Рог изобилия. Предельное выражение идеологического вегетарианства и одновременно универсальный символ кулинарной иконографии зрелого соцреализма – хрустальная ваза с фруктами. Непременная деталь официального приема – от кремлевских кабинетов до сельсоветов и парткомов, – она появляется на бесчисленных фотографиях, плакатах, в кадрах кинохроники. Как украшение, ваза стояла и во многих частных квартирах, но в этом случае фрукты изготовлялись из папье-маше.
Впрочем, настоящие фрукты тоже не предназначались для еды. На всех изображениях ваза всегда нетронута – плоды должны переполнять вазу, почти вываливаться из нее. Поэтому в набор фруктов, наряду с яблоками, грушами и сливами, обязательно включался виноград, свисавший живописными гроздями. Такая ваза символизировала избыток и благоденствие. Она была иконой советского образа жизни, социалистическим рогом изобилия.
В культуру сталинской эпохи этот сюжет попал, видимо, с картин живописцев Болонской школы, ставших образцами для художников соцреализма. Академисты в свою очередь заимствовали сюжет о роге изобилия из античной мифологии. У греков так назывался рог вскормившей Зевса козы Амалтеи. Наполненный фруктами и украшенный цветами, он являлся атрибутом богов. В первую очередь рог изобилия сопровождал изображение Тихе, греческой богини случая, счастливого и злого рока, которая по своей прихоти возвышает или ниспровергает смертных. Вряд ли эти мифологические коннотации осознавались сталинской культурой, но они бесспорно придают классической вазе с фруктами глубину обобщающей кулинарной метафоры социализма.
Пир во время чумы
Сталинскую эпоху, кажется, нельзя исчерпать – ни вырванными из архивов признаниями, ни свидетельствами очевидцев, ни усердием историков, ни исповедями политиков, ни прозрениями поэтов. В ней всегда остается неразъясненный остаток, способный регенерировать уже совсем в другое время – в другом веке. Как будто тогда, 5 марта 1953 года, Сталин умер не совсем. Неокончательность его кончины чревата почти мистическими некроэффектами, завораживающими и нынешнюю культуру. Она всё еще озадачена тайной, которую Сталин не унес в могилу и тогда, когда его тело вынесли из мавзолея, чтобы наконец предать земле. Обеззараживающий слой кремлевской почвы оказался недостаточным, чтобы погрести под собой труп.
Даже с революцией истории было проще справиться. Мир усвоил ее урок, приняв в себя, скажем, бесспорные достижения русского авангарда. Порожденный революцией и отчасти породивший ее, он давно уже нашел себе безопасное место – в музее. Но сталинская культура по-прежнему бездомна, как призрак. Бестелесность делает ее менее уязвимой. Не дав своих гениев, способных вскрыть ее сущность так же глубоко, как это сделали с революцией Малевич и Платонов, сталинская эпоха растворилась в духе своего времени, заражая собой и наше.
Об этом свидетельствует русский Интернет: “Люди ждут возвращения Сталина, ищут его следы, считают дни, оставшиеся до его прихода. Говорят, что, если приложить ухо в поволжской степи под Сталинградом, можно услышать его шаги”.
Тоталитаризм рассчитывал расписаться на страницах вечности нерушимой сталью. Но подлинным объектом его творчества стали человеческие души. Не ржавые руины рабских строек, а сталинский миф оказался самым долговечным продуктом той трагической эпохи, что в совершенстве освоила жуткое искусство – устраивать пир во время чумы.
При всём этом от сталинской эры осталось на удивление мало весомых артефактов. Не зря аналитики тасуют всё те же три карты – московские высотки, ВДНХ, метро. Как ничтожен этот набор для эпохи, убившей ради своей славы десятки миллионов. Даже политическая карта, в которой многие видели наиболее надежный вклад режима в историю, давно уже стала неузнаваемой.
В поисках емкой и амбивалентной метафоры, способной передать парадоксальную природу сталинского режима – его эфемерную монументальность, – можно выделить историческое событие, которое может служить эмблемой эпохи. Это – серия банкетов на Ялтинской конференции, состоявшейся в феврале 1945 года. О политических последствиях этой встречи, определившей на полвека судьбу послевоенного мира, известно, конечно, всем, но только историк-кулинар Вильям Похлёбкин восстановил подробности грандиозной акции, которая сопровождала переговоры союзников в разоренном дотла Крыму той тяжелой, всё еще военной зимой.
Для конференции было приготовлено дворцовое жилье на 350 человек, построены два аэродрома, две автономные электростанции, созданы водопровод, канализация, прачечные и бомбоубежище с железобетонным накатом в 5 метров толщиной.
Но главное – поистине ритуальное – действо происходило за обеденным столом. Описание этого кулинарного спектакля поражает титаническим размахом. Похлёбкин пишет: “Сталин играл решающую роль и в этих чисто гастрономических сферах, ибо внимательно следил за тем, чтобы организовать стол именно так, что он мог бы ошеломить другую сторону ассортиментом, качеством, невиданным содержанием советского меню и, в конце концов, «подавить противника» кулинарными средствами”.
За 18 дней было устроено всё необходимое для проведения невиданных со времен Людовиков банкетов. Об этом говорится в докладной записке Берии Сталину: “На месте были созданы запасы живности, дичи, гастрономических, бакалейных, фруктовых, кондитерских изделий и напитков, организована местная ловля свежей рыбы. Оборудована специальная хлебопекарня, созданы три автономные кухни, оснащенные холодильными установками в местах расположения трех делегаций (в Ливадийском, Юсуповском и Воронцовском дворцах), для пекарей и кухонь привезено из России 3250 кубометров сухих дров”.
Под словом “живность” – расшифровывает Похлёбкин – имелись в виду “ягнята, телята, поросята, упитанные бычки, индейки, гуси, куры, утки, а также кролики”.
Огромных усилий стоила сервировка. “Для нее потребовалось «3000 ножей, 3000 ложек и 3000 вилок, а также 10 000 тарелок разных размеров, 4000 блюдец и чашек, 6000 стопок, бокалов и рюмок». Всё это надо было достать в стране, в которой 35 миллионов мужчин были мобилизованы в армию, потерявшую к этому времени свыше 10–12 миллионов человек, в стране, где пять лет не выпускалось ни одного столового прибора, причем за все эти годы миллионы таких бьющихся хрупких предметов были уничтожены в военной и эвакуационной суматохе”.
За вклад в работу Ялтинской конференции, результаты которой (по мнению Похлёбкина) во многом определила беспрестанная череда банкетов, власти отметили наградами целую армию прислуги. Награждены орденами и медалями 1021 человек. Причем непосредственно поварскому, официантскому и иному обслуживающему персоналу достались 294 награды, то есть почти треть.
Читая эти детальные до нудности описания, нельзя отделаться от впечатления варварской, кощунственной роскоши. Кажется, Сталин запугивал союзников, ставших соперниками, не царским угощеньем, а готовностью к жертве. “Жратва” и “жертва” – слова одного корня и общего происхождения.
В ялтинском пиршестве на костях видится архетипический жест сталинской культуры. Он настолько многозначителен и многозначен, что в нем, как в голографическом изображении, открываются все черты эпохи. Ведь чтобы понять всякую эпоху, как учил Шкловский на примере “Броненосца «Потёмкин»”, нужно идти не вдоль, а поперек темы. Вот банкеты в Ялте и дают такой поперечный срез времени. Наверное, вокруг этого сюжета можно было бы снять глубокий фильм. Правда, для этого потребовалось бы осуществить абсурдную фантазию – соединить усилия Алексея Германа с Никитой Михалковым. Такого неосуществимого симбиоза требует двойственность символического акта, воплотившего противоположные и потому потаенные смыслы сталинского проекта.
С одной стороны, нас удивляет феноменальная эффективность государственной машины, сумевшей имитировать собственную бесперебойность. С другой – поражают бесцельность и бестактность, точнее бесчеловечность этого пира. В сущности, Ялта оказалась потемкинской деревней, которая никого не могла обмануть. (Рассуждая житейски, союзники с их ленд-лизом не могли не знать, в каком состоянии находилась советская страна к концу войны.)
Смысл кулинарного чуда, что бы ни писал об этом Похлёбкин, следует искать за пределами политики – в архаических глубинах мифологического сознания. В рамках этих категорий, которые часто оказываются единственно пригодными для описания сталинской истории, ялтинские банкеты – гекатомба. Грандиозное, внушающее трепет жертвоприношение богам войны, которые должны в благодарность за тучное угощение дать Сталину власть над миром. Ритуальный характер мистерии, в которую превратился дипломатический обед, подчеркивают сверхъестественные усилия, потребовавшиеся для его приготовления. Чтобы сотворить такое, надо было одержимо верить в магическую силу обряда.
Безумное изобилие входило в такой контраст с окружающей нищетой и голодом, что одно как бы упраздняло другое. Фикция замещала действительность, потому что была несопоставима с ней. Неспособный к тотальному преображению мира, режим заменял его собственными символами. Власть, считавшаяся абсолютной, на самом деле могла себя реализовать лишь на отдельных, ритуально выделенных фрагментах социального пространства – на сакральной территории храмовых участков, где располагался вождь или его истукан.
В книге “Тоталитарное искусство” Игорь Голомшток упоминает два характерных эпизода, иллюстрирующих эти патологические отношения с действительностью: “В декабре 1941-го, когда танки Гудериана, исчерпав запасы горючего, остановились на подступах к Москве, на одну из подмосковных станций пробился немецкий железнодорожный состав. Но он не привез умирающей армии ни горючего, ни продовольствия, ни зимнего обмундирования. Вагоны были нагружены плитами красного мрамора для памятника Гитлеру в Москве. В 1943-м мозаичные плафоны для третьей – самой парадной – очереди московского метро набирались в блокированном Ленинграде, и специальные самолеты переправляли оттуда в столицу радостные образы советских людей, шагающих навстречу счастью под водительством великого вождя”.
Эти истории раскрывают общую природу тоталитарной власти, черпавшей силу в ритуальных манипуляциях. Большой стиль, свойственный, как считают, этой эпохе, можно было бы назвать магическим реализмом с не меньшим основанием, чем всю латиноамериканскую прозу. Сталинская культура не изображала реальность, а заклинала ее. Магическое сознание режима, строившего себе, по выражению Пелевина, новые “психические этажи”, осталось неразгаданным наследством. Им до сих пор пытается распорядиться постсоветская культура. Не ленинские “комиссары в пыльных шлемах”, которыми еще бредили шестидесятники, а слепая и могучая сталинская вера в пластичность первичного сырья – жизни как таковой – завораживает новое русское искусство (вспомним Пелевина, Сорокина, Сокурова). Оно ищет в своем темном прошлом зашифрованную инструкцию к изготовлению реальности, чье искусственное происхождение нам открыл постмодернистский век.
Похлёбкину
Я читал Похлёбкина более четверти века, прежде чем довелось с ним познакомиться – и то заочно. Слишком велико было расстояние между Нью-Йорком и его подмосковным Подольском. К тому же Вильям Васильевич, несмотря на миллионные тиражи своих книг, жил скудно. У него даже телефона не было. Этому обстоятельству я обязан нашей перепиской. Его письма – неспешные, подробные, внимательные, учтивые – отличала та же добротная литературная манера, которая подкупает в его кулинарной литературе.
Последнее слово требует пояснений. Книги Похлёбкина с приятно сухими, по-акмеистски неброскими названиями – “Чай”, “Всё о пряностях”, “Приправы” – не только образцовые кулинарные пособия, но и отменная проза. Как раз в этом не все отдают себе отчет. Обидно, несправедливо, но виноваты тут не автор и не его читатели, а отечественная словесность, не приспособленная для такого жанра, как кулинарная эссеистика.
Вот что об этом писал Похлёбкин: “У русской классики была своя вечная тема «путей развития России», и здесь она достигла значительных идейно-художественных высот. Однако именно гражданственность нашей классики объясняет почти полное отсутствие в русской литературе XIX века кулинарного жанра, широко распространенного в литературах Западной Европы, где в области кулинарной художественной литературы были свои классики: имена Брийя-Саварена, автора «Физиологии вкуса», и Гримо де Ла Реньера, написавшего «Альманах гурманов», произносятся и почитаются до сих пор не только во Франции, но и во всей Западной Европе с не меньшим пиететом, чем имена Расина и Мольера”.
Поскольку в России не было традиции “кулинарной художественной литературы”, о которой говорит Похлёбкин, то к гастрономической теме привыкли относиться со снисходительной иронией. И зря. “Здоровый человек с благородным складом ума, – сказал Теккерей, – наслаждается описанием хорошего обеда не меньше, чем самой трапезой”. Кулинарную прозу – “элегантный призрак съеденного обеда” – не следует путать с обычными поваренными книгами. Хотя тут есть и рецепты, читают такие тексты для другого. Каждому блюду сопутствует особое настроение, каждый рецепт окрашен личным отношением, каждый обед описан в своем эмоциональном регистре. Такое сибаритство требует оправдания. Автору часто приходится защищаться от тех, кто считает, что он тратит литературный дар на пустяки и безделки. Но гастрономическое искусство, как и театральное, мимолетно: оно оставляет следы лишь в нашей памяти.
Вот эти воспоминания о волнующих и радостных событиях, пережитых за столом, и составляют сюжеты кулинарной прозы. Не зря так прекрасны описания еды в классической литературе, в том числе русской. Из Гоголя или Толстого можно было бы извлечь том блестящей кулинарной эссеистики. И это была бы книга, наполненная высокой поэзией, книга, воспевающая красоту русского быта. Частично эту задачу выполнил Похлёбкин в книге “Кушать подано!”, о которой еще пойдет речь.
Кулинарная художественная литература способна объединить низ с верхом, тело с духом, желудок с сердцем, низменные потребности с духовными порывами, прозу жизни с ее поэзией. Именно такой литературой и занимался Вильям Васильевич Похлёбкин.
Кулинарная проза знает такое же разнообразие жанров, как и обыкновенная. К сожалению, в новейших кулинарных текстах, которых сейчас в России выходит немало, чаще всего царит безвкусная распущенность, стёб. Еда, конечно, по своей природе оптимистична, а значит, связана с юмором. Однако поскольку у новых авторов как у Чехова или Гоголя не выходит, то юмор им заменяет юморок.
К Похлёбкину всё это отношения не имеет. Он писал сухой, трезвой, лаконичной, предельно точной, терминологически однозначной прозой, отличающей книги тех старых натуралистов, стилем которых восхищался Мандельштам. Похлёбкин – не поэт, а ученый, крупный историк, отнюдь не только кулинарный, и писал он настоящей научной прозой, чья поэзия бесстрастной точности выигрывает от своего экстравагантного предмета.
Области научных интересов Похлёбкина – гастрономическая история, семиотика кухни, кулинарная антропология. Одна из центральных тем Похлёбкина – психосоциология русской кухни.
Заслуга Похлёбкина в том, что он не только открыл русскую кухню для толком не знавшего ее поколения, но и очистил ее от семи десятилетий кулинарного варварства. Объясняя принципы отечественной гастрономии и восстанавливая давно забытые рецепты, Похлёбкин охранял национальное достояние. В сущности, это – кулинарная экология. Каждое выуженное из Леты блюдо не менее ценно, чем отстроенная церковь или спасенная икона. Так, Похлёбкин реконструировал редчайшее древнерусское кушанье – кундюмы: “Кундюмы, или кундюбки, – старинное русское блюдо XVI века, представляющее собой своего рода пельмени с грибной начинкой… но в отличие от пельменей кундюмы не отваривают, а вначале пекут, затем томят в духовке”.
За всеми историческими разысканиями Похлёбкина следить не менее увлекательно, чем за перипетиями детективного романа. Чего стоит, скажем, его описание специфических пасхальных принадлежностей. Среди них меня особенно поразила четверговая соль: “Приготавливается только в России и только раз в году, к Пасхе. Для этого крупную каменную соль толкут в ступке (брать йодированную мелкую соль нельзя!), смешивают с густой квасной гущей, растворяя тем самым соль, и затем выпаривают эту смесь на сковородке на медленном огне. По остывании смеси отвеивают ссохшуюся квасную гущу от соли. Соль должна иметь слегка кофейный (бежевый) цвет и особый приятный вкус. Только с четверговой солью едят пасхальные яйца”.
Когда я написал Вильяму Васильевичу о поразившем мое воображение рецепте, он с некоторой обидой ответил, что я замечаю в его сочинениях одних “муравьев”. Впрочем, тут же добавил, что “муравей” этот “исчезнувший, реликтовый”. За сим следовал чудный исторический анекдот: “В 1843 году русское посольство в Париже поручило ведущему тогда повару Франции г-ну Plumre приготовить пасхальный стол, в том числе и четверговую соль. Француз не смог, хоть бился двое суток. Он просто не знал, что и как делать. Русские дипломаты тоже не смогли ему объяснить. Они ее ели, а как сделать – не знали. Дали депешу в Баден-Баден, где были русские, и случайно нашелся человек, который сообщил рецепт”.
Это лишь несколько примеров, взятых почти наугад из мириад фактов, рассыпанных по книгам Похлёбкина. Фантастическая эрудиция, академическая добросовестность и широта не только гуманитарного кругозора превращают каждую из них в увлекательную и строго научную монографию. Причем написаны они в русле лучшей сегодня французской исторической школы, связанной с журналом “Анналы”, которая постулирует примат частных вопросов над общими исследованиями. Если благодаря коллективным усилиям французов вышла эпохальная “История частной жизни”, то Похлёбкин писал ту же частную историю российской жизни, начиная с самого приватного занятия – обеда.
Еще одна специфически похлёбкинская тема – “Кулинарные мотивы в русской литературе”. По-моему, равнодушным она не может оставить никого: без обыкновенной пищи жить нельзя, а без духовной – не хочется. Целиком этому сюжету посвящена одна из лучших книг Похлёбкина “Кушать подано!”. Ее содержание раскрывает подзаголовок “Репертуар кушаний и напитков в русской классической драматургии с конца XVIII до начала XX столетия”. В этом сочинении автор вычленил кулинарные инкрустации из хрестоматийных текстов, чтобы восстановить, описать и прокомментировать кулинарный антураж, сопровождавший российскую Мельпомену от Фонвизина до Чехова.
При таком анализе гастрономическая деталь служит метафорой душевного состояния героя или сюжетной коллизии пьесы. В совокупности они создают общий кулинарный пейзаж того или иного автора той или иной эпохи. Действующие лица пьесы “Женитьба”, начиная с главного героя по фамилии Яичница, – “субъективированные закуски или напитки, принадлежность закусочного стола”. Гоголь формирует пародию на закусочный стол, который мог бы присутствовать на несбыточной свадьбе. Это: “Яичница, селедка, черный хлеб, шампанское, мадера”. Такое меню, объясняет автор, насмешка Гоголя над опошлением святого на Руси понятия еды.
Похлёбкин вставляет свою гастрономическую роспись в социально-культурный контекст, что неожиданно придает его, как всегда, сдержанному сочинению отчетливый гражданский пафос. Не отходя далеко от кухни, он сумел высказаться и по острым проблемам современной политики. При этом Похлёбкин стилизовал авторский образ под основательного, тяжеловесного, консервативного наблюдателя нравов, напоминающего фонвизинского Стародума. В этой, как и в других книгах, Похлёбкин достойно защищает свои глубоко патриотические убеждения, отнюдь не ограничивающиеся отечественной кухней. Напротив, он специально оговаривает: “Совершенно недостаточно любить ботвинью, поросенка с кашей и подовые пироги со щами, чтобы считаться русским патриотом”.
Однажды я решил воспользоваться знаниями Вильяма Васильевича, чтобы соединить русскую литературу с русской кухней на нью-йоркской почве. На Манхэттене есть ресторан-клуб “Самовар”, которым управляет мой старый товарищ Роман Каплан. Вот я и предложил ему подавать русские литературные обеды. За меню было естественно обратиться к Похлёбкину.
Вскоре пришел обстоятельный и точный ответ: “Имеются по крайней мере 20–25 исторических русских деятелей (государственных, культурных, военных), которым посвящены (и носят их имена) по меньшей мере 45–50 блюд. Что же касается Гоголя и Пушкина, то я сконструировал их обеды, на основе изучения их пристрастий. Это, так сказать, теоретически-научно-обоснованные писательские меню, а не реальные. Они могут считаться типичными или характерными для их вкусов”.
Мне кажется уместным закончить этот опус двумя классическими – во всех отношениях – меню, которые реконструировал Вильям Васильевич.
Итак, пушкинский обед, как уточняет Похлёбкин, русский – в отличие от французского, ресторанного – домашний обед, который он мог съесть в собственной усадьбе или в гостях у Вяземского:
Закуски
Осетрина (отварная, или заливная, или горячего, или холодного копчения)
Телятина холодная с огурцом соленым
Водка: Московская, лимонная, тминная
Хлеб: черный ржаной, белый кислый (домашний)
Первое
Зимой – щи суточные с кислой капустой
Летом – щи свежие ленивые
Второе
Гусь с капустой тушеный
Пожарские котлеты (куриные)
Грибы жаренные в сметане
Вино: красное кахетинское или бордо
Третье
Чай с ромом
Варенье (клубничное, земляничное, малиновое)
А вот обед, который заказал бы Гоголь:
Закуски
Грибы маринованные
Семга малосольная. Картофель в мундире
Хлеб: ржано-пшеничный
Водка: Московская особая
Горилка с перцем
Первое
Щи свежие (ленивые) со сметаной
Приклад: пироги мясные подовые
Второе
Лабардан (треска отварная с яйцом крутым рубленым, картофелем отварным и соленым огурцом)
Третье
Арбуз
Чернослив со сливками
Чай с вишневым вареньем